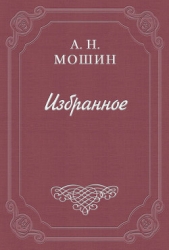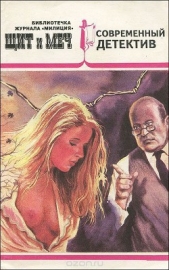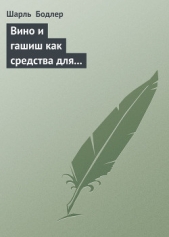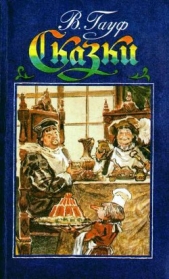Белый яд. Русская наркотическая проза первой трети ХХ века (сборник)

Белый яд. Русская наркотическая проза первой трети ХХ века (сборник) читать книгу онлайн
В уникальной антологии «Белый яд» собраны образцы русской «наркотической» прозы первой трети XX в. Среди них есть и классические произведения (Н. Гумилев, М. Булгаков, М. Агеев), и произведения редкие, малоизвестные и частью до сих пор никогда не переиздававшиеся. В приложениях — отчеты русских ученых, ставивших на себе опыты по приему наркотических веществ (Н. Миклухо-Маклай, Н. Ланге) и другие материалы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Какое смертное дело? — спросил я.
— Они ушли убивать Зверя Судьбы. Умер ишан — Дауд-Шах, наш вождь и святой, родившийся в год Барса.
Я окончательно перестал понимать слова. Старик показался мне просто полоумным.
— Не смотри на меня так, — продолжал он. — В меня не вселился джинн. Я в совершенном здоровье и рассудке. Пусть Сиаб-Лавка, Шахриар, объяснит тебе наш обычай.
— У нашего народа счет годам ведется не так, как у других народов земли. У нас есть «мучаль» — звериный круг в двенадцать лет [2]. Счет идет от года Мыши до года Свиньи и затем снова идет сначала. Сейчас год Барана, а потом будет год Обезьяны и год Петуха. От бегства Магомета до сегодняшнего дня прошло сто десять кругов мучаль. Вот тебе трубка опиума, товарищ, как раз подходящая — ни большая, ни маленькая. Ты должен ее выкурить.
Я лег на кошму и сильной затяжкой потянул в себя воздух из трубки. В горло попал горячий горький дым. Сладко налились тяжестью ноги, и внутри тела стало все плотным и липким. Я закашлялся и отбросил трубку на кошму.
— Теперь ты должен знать, куда ушла наша молодежь, — продолжал Шахриар-Хан. — Я расскажу тебе это. потому что ты русский. Никогда не стал бы говорить этого мусульманину, если он не нашей секты и на наш тайный знак — пять раскрытых пальцев не ответит таким же знаком. Они смеются над переселением душ. Дураки. Хуже неверных.
Шахриар на минуту прервал свою речь и выкурил трубку. Затем он продолжал бесстрастным голосом:
— Когда у нас умирает ишан — душа его переселяется в животное, под знаком которого он родился. Семь дней назад умер ишан Дауд-Шax, проживший шесть мучаль. Он родился в год Барса, и сегодня вся молодежь деревни отправилась убивать барса для того, чтобы облегчить душе ишана обратный переход в человека. Моя жена должна родить. Пусть ишан перейдет в моего сына.
— Отчего же известно, что они убьют именно того барса, который нужен? Они ведь могут убить другого барса.
— Мы хорошо знаем нашего барса. Ишан Дауд-Шах — да будет он в мире — имел на лице примету: у него провалился нос. Наши охотники отыскали барса с пятном на носу. Ошибки быть не может.
Выкуренный опиум, духота и клубы приторного дыма подействовали на меня. Я оглядел комнату, где все казалось мне наполненным контрастами черного и желтого. Нелепая круглая голова трубки делала ее похожей на странную очковую змею. Шахриар держал ее хвост в зубах и ровными затяжками сосал огонь из светильника. Я провел рукой по лбу, покрывшемуся холодным потом. В ушах стоял какой-то отдаленный шум, не разрушавший, тем не менее, впечатления абсолютной тишины, наступившей в мире. Все тело было липким и чесалось.
«Э, да ты, брит, пьян», — пронеслось у меня в голове.
В этот момент заговорил Шахриар-Хан. Голос его был медленным и то усилялся, то утихал:
— Для чего все это — комиссия, милиция, тюрьма? Для чего все это. товарищ, скажи мне? Опиум — гора и горе, горе и радость, горб, дорога… и вы хотите запрятать его в тюрьму?.. Скорей лицо ваше станет черным…
Это было невыносимо. Одним прыжком я растворил низкую дверь и, ударившись головой, очутился на воздухе. Луна давно зашла.
Был близок рассвет. На кисее неба висели редкие звезды. Моя голова, в которой вертелись обрывки мыслей, была огромной и тяжелой.
«Какой нынче год? — почему-то вспомнилось мне. — И что принесет Шахриар-Хану ревизия Узбекторга… Ах да — год Барана…».
Затем напряжение, тяжелым свинцом оковавшее мир, разорвалось. Бледным заревом отгорел рассвет. Один за другим, изможденные и шатающиеся, опиисты выходили из низкой двери. Меня стало рвать.
Петр Пильский
БЕЛЫЙ ЯД
Воспоминания
Люди влюбляются в недостижимое. Память слаще всего привязывается к тому, чего нельзя вернуть. Неповторимо, в своей прелести старины, звучит лермонтовская строка: «Я ехал на перекладных из Тифлиса»… Тогда я ехал из Италии в Вену, — покачиваясь на легком ходу, меня нес австрийский шнельцуг. Изящное и гордое создание природы, лошадь стала исчезать уже в ту пору, 20 лет тому назад. Теперь ее надо разыскивать. Когда А. И. Куприн осел во Франции, ему пришла в голову хорошая затейная мысль. Он задумал совершить путешествие по старым французским дорогам верхом на коне. Этому не суждено было осуществиться. Не осталось старых дорог, переделанных и приспособленных для автомобильной гонки, исчезли уютные старинные гостиницы, где толстый и добродушный хозяин подавал путешественникам старое вино, а из-за его широкой спины кокетливо выглядывала молоденькая служанка: еще одна минута терпения — и она поставит пред путником блюдо со свежезажаренным куском сочной баранины, такой восхитительной после долгого пути.
В моем шнельцуге я мечтал не о баранине. Я ехал из Италии и думал о том, как хорошо было бы получить на обед русский борщ и гречневую кашу. В Италии это недостижимо. Но мечтал я не напрасно. В Вене я знал одно место, где можно отведать настоящие русские кушанья: надо было остановиться в меблированных комнатах, отдававшихся внаем только по рекомендации. Владельцем этого уюта был харьковский еврей, переселившийся в австрийскую столицу. Он не только прекрасно кормил, угостил меня борщом и кашей, но еще дал мне в провожатые по Вене своего сына, любезного молодого человека. От него я узнал, как легче всего увидаться с Петером Альтенбергом, и наша встреча с знаменитым тогда писателем состоялась на другой день моего приезда, — об этом я писал в «Сегодня».
Конечно, сам по себе, обед — мелочь. Важно поесть — неплохое занятие, — из него, однако, не надо создавать культ. После Италии давно не виданный борщ и каша должны были казаться особенно заманчивыми. Три года тому назад я получил письмо от писателя М. А. Осоргина. В нем он вспоминает о синьоре Анджело и его маленьком ресторанчике «Рома Спарито», что означает «Разрушенный Рим». Во время войны разрушилось счастье и самого Анджело: его клиентура разлетелась. В тот год, когда мы ежедневно обедали и ужинали у этого толстого, круглого, низенького человека, за нашим столом сидела разноязычная публика, — румынский нумизмат, римский корреспондент «Франкфуртер цейтунг», немецкий студент, начинающий французский художник, сербский скульптор Иоаннович, вылепивший мой бюст, и все мы говорили на волапюке или чрез переводчиков, — ими мы становились в зависимости от говорящего и его слушателя. И когда к сербскому скульптору обращался французский художник, переводчиком становился я, когда немецкий студент старался что-то объяснить румыну, посредником между ними являлся русский еврей, студент-технолог, — так мы беседовали, собираясь днем, потом вечером, просиживая у синьора Анджело до поздней ночи. Темнело бархатное, в звездах, итальянское небо, звенели из окон мечтательные голоса поющих женщин, журчал маленький фонтанчик, и в садик, заплетенный сверху виноградом, служивший продолжением ресторана Анджело, приходил высокий, немолодой певец с мандолиной и маленькой дочкой. Прежде он появлялся со старшей, но тут у него случился грех. Свою старшую дочку он соблазнил, и за это ему пришлось изведать все неудобства итальянской тюрьмы. Соотечественники к этому отнеслись снисходительно. Равнодушно, чуть-чуть сожалительно они говорили о непохвальном проступке поющего синьора, как о маленьком несчастье. Анджело кормил неплохо, — на итальянский вкус. Русские привыкли есть сытней и, как ни вкусны макароны, наверчиваемые быстрым движеньем на ложку, питаться ими в течение многих месяцев, разнообразя яичницей на оливковом масле, съедать ежедневно тонкий ломтик мяса, гордо именуемый бифштексом, — для наших молодых желудков было недостаточно и скудно.
Настоящим русским гостеприимством на меня пахнуло в Харькове. Чуть ли не на другой день после моего приезда мои знакомые устроили холостой ужин. Его затеял милый человек, Анатолий Жмудский, редактор-издатель газеты «Утро». Но дело не в ужине, а в том, что я там увидел, впервые в моей жизни.