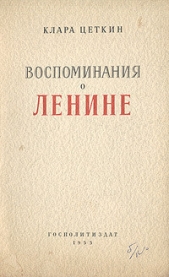Том 17. Рассказы, очерки, воспоминания 1924-1936

Том 17. Рассказы, очерки, воспоминания 1924-1936 читать книгу онлайн
В семнадцатый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1924–1936 годах. Из них следующие входили в предыдущие собрания сочинений писателя: «В.И. Ленин», «Леонид Красин», «Сергей Есенин», «О Гарине-Михайловском», «Н.Ф. Анненский». Некоторые из этих произведений редактировались писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов, и при подготовке других изданий в 1930-х годах.
Остальные произведения семнадцатого тема включаются в собрание сочинений впервые. За немногими исключениями эти произведения, опубликованные в советской периодической печати в 1925–1936 годах, М. Горький повторно не редактировал.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И ведь действительно — сказал.
Как-то, находясь в состоянии глубокой задумчивости и нежно лелея прыщик сладкой надежды своей, зашёл Иван Иванович в магазин — лимон хотел купить — и на вопрос приказчика:
— Что желаете, гражданин? — ответил искренно:
— Мне бы — термидорчик!
Самокритик Словотёков.
По Союзу Советов
I
В Баку я был дважды: в 1892 и в 1897 годах. Нефтяные промысла остались в памяти моей гениально сделанной картиной мрачного ада. Эта картина подавляла все знакомые мне фантастические выдумки устрашённого разума, все попытки проповедников терпения и кротости ужаснуть человека жизнью с чертями, в котлах кипящей смолы, в неугасимом пламени адовом. Я — не шучу. Впечатление было ошеломляющее.
За несколько дней перед тем, как я впервые очутился в Баку, на промыслах был пожар, и над вышками, под синим небом, ещё стояла туча дыма, такая странно плотная, тяжёлая, как будто в воздух поднялось несколько десятин чернозёма. Когда я и товарищ мой Фёдор Афанасьев, шагали по песчаной дороге, жирно пропитанной нефтью, подходили к Чёрному городу и я увидел вершины вышек, воткнувшиеся в дым, мне именно так и показалось: над землёй образована другая земля, как бы второй этаж той, на которой живут люди, и эта вторая земля, расширяясь, скоро покроет небо вечной тьмой. Нелепое представление усилилось, окрепло при виде того, как из одной вышки бьёт в тучу дыма фонтан чёрной грязи, точно землю стошнило и она, извергая внутреннее своё, расширяет дымно-масляную крышу над землёй.
В стороне от дороги увязла в глубоком песке санитарная повозка, измазанная чёрным и красным; у неё сломалась ось; в повозке лежал человек, одна нога — босая, неестественно синяя, на другой — раздавленный и мокрый сапог, из него на песок падали тяжёлые, тёмные капли; рыжеволосый возница в кожаном переднике лежал на песке, связывая ось ремнём с грязной доской; на измятой железной бочке сидел санитар, присыпая песком влажные пятна на халате. Афанасьев спросил его:
— Убитый?
— Шагай мимо, дело не твоё.
Нас обгоняли и шли встречу нам облитые нефтью рабочие, блестя на солнце, точно муравьи. Обогнала коляска, запряжённая парой серых, очень тощих лошадей, в коляске полулежал, закрыв глаза, человек в белом костюме, рядом с ним покачивался другой, остробородый, в тёмных очках, с кокардой на фуражке, с жёлтой палкой на коленях. Коляску остановила группа рабочих, десятка два; сняв шапки, размахивая руками, они заговорили все сразу:
— Помилуйте! Как же это? Мы — не можем! Помилуйте!
Человек с кокардой привстал и крикнул:
— Назад! Кто вам позволил? Марш назад!
Кучер тронул лошадей, коляска покатилась, врезая колёса в песок, точно в тесто, рабочие отскочили и пошли вслед за нею, молча покрывая головы, не глядя друг на друга. Все они как будто выкупались в нефти, даже лица их были измазаны тёмным жиром её. На промысел они нас не пустили, угрожая побить.
Часа два, три мы ходили, посматривая издали на хаос грязных вышек, там что-то бухало влажным звуком, точно камни падали в воду, в тяжёлом, горячем воздухе плавал глуховатый, шипящий звук. Человек десять полуголых рабочих, дёргая верёвку, тащили по земле толстую броневую плиту, связанную железной цепью, и угрюмо кричали:
— Аа-а́! Аа-аа́!
На них падали крупные капли чёрного дождя. Вышка извергала толстый чёрный столб, вершина его, упираясь в густой, масляный воздух, принимала форму шляпки гриба, и хотя с этой шляпки текли ручьи, она как будто таяла, не уменьшаясь. Странно и обидно маленькими казались рабочие, суетившиеся среди вышек. Во всём этом было нечто жуткое, нереальное или уже слишком реальное, обезмысливающее. Федя Афанасьев, плюнув, сказал:
— Трижды с голода подохну, а работать сюда — не пойду!
…На промысла я попал через пять лет с одним из сотрудников газеты «Каспий»; он обещал рассказать мне подробно обо всём, но, когда мы приехали в Сураханы, познакомил меня с каким-то очень длинным человеком, а сам исчез.
— Смотрите, — угрюмо сказал мне длинный человек и прибавил ещё более угрюмо: — Ничего интересного здесь нет.
Весь день, с утра до ночи, я ходил по промыслу в состоянии умопомрачения. Было неестественно душно, одолевал кашель, я чувствовал себя отравленным. Плутая в лесу вышек, облитых нефтью, видел между ними масляные пруды зеленовато-чёрной жидкости, пруды казались бездонными. И земля, и всё на ней, и люди — обрызганы, пропитаны тёмным жиром, всюду зеленоватые лужи напоминали о гниении, песок под ногами не скрипел, а чмокал. И такой же чмокающий, сосущий звук «тартанья», истекая из нутра вышек, наполняет пьяный воздух чавкающим шумом. Скрипит буровая машина, гремит железо под ударами молота. Всюду суетятся рабочие: тюрки, русские, персы роют лопатами карьеры, канавы во влажном песке, перетаскивают с места на место длинные трубы, штанги, тяжёлые плиты стали. Всюду валялась масса изломанного, изогнутого железа, извивались по земле размотанные, раздёрганные проволочные тросы, торчали из песка куски разбитых труб и — железо, железо, точно ураган наломал его.
Рабочие вызывали впечатление полупьяных; раздражённо, бесцельно кричали друг на друга, и мне казалось, что движения их неверны. Какой-то, очень толстый, чумазый, бросился на меня и хрипло заорал:
— Что же ты, дьявол, желонку…
Но увидав, что я — не тот человек, побежал дальше, ругаясь и оставив в памяти моей незнакомое слово — «желонка» [20].
Среди хаоса вышек прижимались к земле наскоро сложенные из рыжеватых и серых неотёсанных камней длинные, низенькие казармы рабочих, очень похожие на жилища доисторических людей. Я никогда не видел так много всякой грязи и отбросов вокруг человеческого жилья, так много выбитых стёкол в окнах и такой убогой бедности в комнатках, подобных пещерам. Ни одного цветка на подоконниках, а вокруг ни кусочка земли, покрытой травой, ни дерева, ни кустарника. Жутко было смотреть на полуголых детей, они месили ногами зеленоватую, жирную слизь в лужах, группами по трое, по пяти уныло сидели в дверях жилищ, прижавшись друг к другу, играли на плоских крышах обломками железа, щепками. Как всё вокруг, дети тоже были испачканы нефтью, их чумазые рожицы, мелькая повсюду, напоминали мрачную сказку о детях в плену братьев-людоедов и рассказ древнего географа Страбона о том, как Александр Македонский пробовал горючесть нефти: он приказал облить ею мальчика и зажечь его.
Плотники тесали бревно, поблескивая щекастыми топорами, строилась ещё одна буровая вышка, по скелету её влезал чернобородый мужик, босой, без рубахи. Он держал в зубах конец верёвки, а руками хватался за рёбра вышки и тяжело, неловко лез всё выше; на земле, в луже грязи оливкового цвета, стоял старичок со связкой верёвки в руках, разматывая её, — похоже было, что он запускает бумажного змея.
— На небо не залезь, — крикнул он чернобородому, а тот, сверху, густо, громко и серьёзно ответил:
— Не бойсь.
Эти слова тоже остались в памяти, должно быть, потому, что всё вокруг кипело мрачным раздражением, все люди казались неестественно возбуждёнными, хотя, может быть, это впечатление внушила мне книга, — я где-то прочитал, что нефть обладает наркотическими свойствами.
На одном участке, в стороне от наиболее тесной группы вышек, сотни две людей работали особенно бешено, командовал ими широкоплечий детина в белом халате, в тюбетейке, обрызганный нефтью, точно маляр краской. Размахивая длинными руками и ни на минуту не закрывая волосатый рот, он истерически орал матерщину, сопровождая ею каждое слово, руками толкал рабочих в спину, в шею, раздавал пинки ногами, одного схватил за плечо и бросил на землю, точно кошку.
— Нагибай! — взвизгивал он и ругался трёхэтажно. — Клади! — и снова ругался. — Двигай!
Не видно было, что делает воющий клубок людей, мне казалось, что большинство их ничего не делает, подпрыгивая, толкая друг друга, заглядывая через плечи стоявших впереди в центре толпы, где «нагибали», «двигали» что-то и тоже ругались. Казалось, что все эти люди испуганы возможностью катастрофы и бьются над тем, чтоб предупредить её. А издали картина промысла и работы на нём создавала странное впечатление: на деревянный город напали враги, племя чёрных людей, и разрушают, грабят его. Я ушёл в поле очумевшим, испытывая анархическое желание поджечь эти деревянные пирамиды, пропитанные чёрным жиром земли, поджечь, чтоб сгорели не только пруды тёмно-оливковой масляной грязи в карьерах, но воспламенился весь жир в недрах земли и взорвал, уничтожил Сураханы, Балаханы, Романы, всю эту грязную сковороду, на которой кипели, поджаривались тысячи измученных рабочих людей.