На дне. Избранное (сборник)
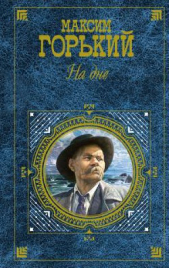
На дне. Избранное (сборник) читать книгу онлайн
Максим Горький (псевдоним Алексея Максимовича Пешкова; 1868–1936) — едва ли не самый известный и вместе с тем самый непрочитанный писатель XX века. Его творческое наследие огромно и разнообразно. В этом томе, составленном на основе современных школьных программ по литературе, перед читателями предстанет разноликий Горький — не только автор самобытной прозы и драматург, но и поэт, а также публицист. Возможно, те, кто окончил школу в советские времена, уже вместе со своими детьми откроют для себя новый образ этого художника слова — способного не только вовремя выпустить пропагандистский роман Мать, но и прозревавшего сокровенные тайны человеческой натуры и людского сообщества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— И не понравилась теперь она мне, ну просто страх как! Так это и засасывает меня она, так и втягивает куда-то, точно трясина бездонная. Ишь ты, облюбовала себе мужа! Не больно умна, а хитрая девочка.
Это в нем, видимо, начинал говорить инстинкт бродяги, чувство вечного стремления к свободе, на которую было сделано покушение.
— Нет, меня на такого червя не поймаешь, я рыба крупная! — хвастливо воскликнул он. — Я вот как возьму да… а что в самом деле? — И, остановясь среди пекарни, он, улыбаясь, задумался. Я следил за игрой его возбужденной физиономии и старался предугадать, на чем он решил.
— Максим! Айда на Кубань?!
Этого я не ожидал. У меня по отношению к нему имелись некоторые литературно-педагогические намерения: я питал надежду выучить его грамоте и передать ему всё то, что сам знал в ту пору. Он дал мне слово всё лето не двигаться с места; это облегчало мне мою задачу, и вдруг…
— Ну, это уж ты ерундишь! — несколько смущенно сказал я ему.
— Да что ж мне делать? — воскликнул он.
Я начал говорить ему, что посягательство Капитолины на него совсем уж не так серьезно, как он его себе представляет, и что надо посмотреть и подождать. И даже, как оказалось, ждать-то было недолго. Мы беседовали, сидя на полу перед печью спинами к окнам. Время было близко к полночи, и с той поры, как Коновалов пришел, прошло часа полтора-два. Вдруг сзади нас раздался дребезг стекол, и на пол шумно грохнулся довольно увесистый булыжник. Мы оба в испуге вскочили и бросились к окну.
— Не попала! — визгливо кричали в него. — Плохо метила. А уж бы…
— П'дё-ем! — рычал зверский бас. — П'дё-ем, а я его после уважу!
Отчаянный, истерический и пьяный хохот, визгливый, рвавший нервы, летел с улицы в разбитое окно.
— Это она! — тоскливо сказал Коновалов.
Я видел пока только две ноги, свешенные с панели в углубление пред окном. Они висели и странно болтались, ударяя пятками по кирпичной стенке ямы, как бы ища себе опоры.
— Да п'дё-ем! — лопотал бас.
— Пусти! Не тяни меня, дай отвести душу. Прощай, Сашка! Прощай… — следовала довольно нецензурная брань.
Подойдя ближе к окну, я увидал Капитолину. Наклонившись вниз, упираясь руками в панель, она старалась заглянуть внутрь пекарни, и ее растрепанные волосы рассыпались по плечам и груди. Беленький платок был сбит в сторону, грудь лифа разорвана. Капитолина была пьяна и качалась из стороны в сторону, икая, ругаясь, истерично взвизгивая, дрожащая, растрепанная, с красным, пьяным, облитым слезами лицом…
Над ней согнулась высокая фигура мужчины, и он, упираясь одной рукой ей в плечо, а другой в стену дома, всё рычал:
— П'дё-ем!..
— Сашка! Погубил ты меня… помни! Будь проклят, рыжий черт! Не видать бы тебе ни часу света божьего. Надеялась я… Насмеялся ты, злодей, надо мной… ладно! Сочтемся! Спрятался! Стыдно, харя поганая… Саша… голубчик.
— Я не спрятался… — подойдя к окну и взлезая на ларь, сказал глухо и густо Коновалов. — Я не прячусь… а ты напрасно… Я добра ведь тебе хотел; добро будет — думал, а ты понесла совсем несообразное…
— Сашка! Можешь ты меня убить?
— Зачем ты напилась? Разве ты знаешь, что было бы… завтра!..
— Сашка! Саша! Утопи меня!
— Бу-удет! П`дё-ем!
— Мер-рзавец! Зачем ты притворился хорошим человеком?
— Что за шум, а? Кто такие? — Свисток ночного сторожа вмешался в этот диалог, заглушил его и замер.
— Зачем я в тебя, черт, поверила… — рыдала девушка под окном.
Потом ее ноги вдруг дрогнули, быстро мелькнули вверх и пропали во тьме. Раздался глухой говор, возня…
— Не хочу в полицию! Са-аша! — тоскливо вопила девушка.
По мостовой тяжело затопали ноги. Свистки, глухое рычание, вопли..
— Са-аша! Ми-илый!
Казалось, кого-то немилосердно истязуют. Всё это удалялось от нас, становилось глуше, тише и пропало, как кошмар.
Подавленные этой сценой, разыгравшейся поразительно быстро, мы с Коноваловым смотрели на улицу во тьму и не могли опомниться от плача, рева, ругательств, начальнических окриков, болезненных стонов. Я вспоминал отдельные звуки и с трудом верил, что всё это было наяву. Страшно быстро кончилась эта маленькая, но тяжелая драма.
— Всё!.. — как-то особенно кротко и просто сказал Коновалов, прислушавшись еще раз к тишине темной ночи, безмолвно и строго смотревшей на него в окно.
— Как она меня!.. — с изумлением продолжал он через несколько секунд, оставаясь в старой позе, на ларе, на коленях и упираясь руками в пологий подоконник. — В полицию попала… пьяная… с каким-то чертом. Скоро как порешила! — Он глубоко вздохнул, слез с ларя, сел на мешок, обнял голову руками, покачался и спросил меня вполголоса:
— Расскажи ты мне, Максим, что же это такое тут теперь вышло?.. Какое мое теперь во всем этом дело?
Я рассказал. Прежде всего нужно понимать то, что хочешь делать, и в начале дела нужно представлять себе его возможный конец. Он всё это не понимал, не знал и — кругом во всем виноват. Я был обозлен им — стоны и крики Капитолины, пьяное «п'дё-ем!..» — всё это еще стояло у меня в ушах, и я не щадил товарища.
Он слушал меня с наклоненной головой, а когда я кончил, поднял ее, и на лице его я прочитал испуг и изумление.
— Вот так раз! — восклицал он. — Ловко! Ну, и… что же теперь? А? Как же? Что мне с ней делать?
В тоне его слов было так много чисто детского по искренности сознания своей вины пред этой девушкой и так много беспомощного недоумения, что мне тут же стало жаль товарища, и я подумал, что, пожалуй, уж очень резко говорил с ним.
— И зачем я ее тронул с того места! — каялся Коновалов. — Эхма! ведь как она теперь на меня… Я пойду туда, в полицию, и похлопочу… Увижу ее… и прочее такое. Скажу ей… что-нибудь. Идти?
Я заметил, что едва ли будет какой-либо толк от его свидания. Что он ей скажет? К тому же она пьяная и, наверное, спит уже.
Но он укрепился в своей мысли.
— Пойду, погоди. Все-таки я ей добра желаю… как хошь. А там что за люди для нее? Пойду. Ты тут тово… я — скоро!
И, надев на голову картуз, он даже без опорок, в которых обыкновенно щеголял, быстро вышел из пекарни. Я отработался и лег спать, а когда поутру, проснувшись, по привычке взглянул на место, где спал Коновалов, его еще не было.
Он явился только к вечеру — хмурый, взъерошенный, с резкими складками на лбу и с каким-то туманом в голубых глазах. Не глядя на меня, подошел к ларям, посмотрел, что мной сделано, и молча лег на пол.
— Что же, ты видел ее? — спросил я.
— Затем и ходил.
— Ну так что же?
— Ничего.
Было ясно — он не хотел говорить. Полагая, что такое настроение не продлится у него долго, я не стал надоедать ему вопросами. Он весь день молчал, только по необходимости бросая мне краткие слова, относящиеся к работе, расхаживал по пекарне с понуренной головой и всё с теми же туманными глазами, с какими пришел. В нем точно погасло что-то; он работал медленно и вяло, связанный своими думами. Ночью, когда мы уже посадили последние хлебы в печь и, из боязни передержать их, не ложились спать, он попросил меня:
— Ну-ка, почитай про Стеньку что-нибудь.
Так как описание пыток и казни всего более возбуждало его, я стал ему читать именно это место. Он слушал, неподвижно растянувшись на полу кверху грудью, и, не мигая глазами, смотрел в закопченные своды потолка.
— Вот и порешили с человеком, — медленно заговорил Коновалов. — А все-таки в ту пору можно было жить. Свободно. Было куда податься. Теперь вот тишина и смиренство… ежели так со стороны посмотреть, совсем даже смирная жизнь теперь стала. Книжки, грамота… А все-таки человек без защиты живет и никакого призору за ним нет. Грешить ему запрещено, но не грешить невозможно… Потому на улицах-то порядок, а в душе — путаница. И никто никого не может понимать.
— Ну так как же ты с Капитолиной-то? — спросил я.
— А? — встрепенулся он. — С Капкой? Шабаш… — Он решительно махнул рукой.
— Кончил, значит?


























