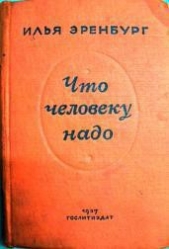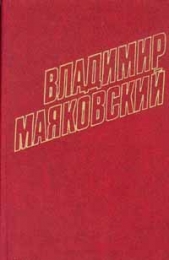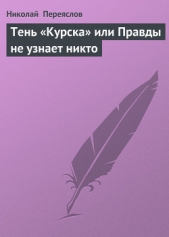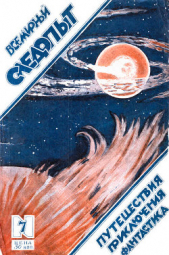Лето 1925 года

Лето 1925 года читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- Юр, они смотрят на вас! Вы никуда не уедете. Когда я выглянул в окошко отеля, вы шли прямо в морг. Почему вы так побледнели? Не следует ждать Диди. Это злой персонаж кабацкой трагедии. Вы не верите мне? Вы улыбаетесь? Что ж, если вы можете, бегите, бегите на вокзал! Только скорее!..
Он не послушался меня. Впрочем, он и не мог уйти. Пока я метался в тревоге, мотылек расправил крылья своего невыносимого шарфа и, описав несколько судорожных дуг, повис над Юром. Что заставило Паули пренебречь недобрым колыханьем ревнивого фантаста - нежность, месть или безнадежность? Ее приход был непонятен и страшен. Юр привстал! Я же преглупо протянул ей стакан с коктейлем: "скол". Женщина, однако, молчала. Танцы окрест продолжались. Это была инерция давних, доисторических чувств. Ничто не могло уже остановить жалобы саксофона и механическую тряску плеч. Я попробовал заговорить:
- Паули, не нужно звать полицию! Зачем тебе Юр? У тебя ведь щеглы в беседке. Опомнись, Паули! Тогда в кафе ты плакала от ласки и от хлеба. Пожалей же Юра! Он разорвал синюю тетрадку. А у тебя Эдди. Ты слышишь - у тебя Эдди!..
Паули молчала, все так же напряженно и необъяснимо глядя на Юра. Тогда раздался голос, столь трогательный в своей человечности, что я не сразу понял, откуда он исходит. Среди автомобильных фанфарад и граммофонных вмешательств я ведь успел отвыкнуть от теплых звуков живых существ. Это говорил Юр. Никогда прежде он не говорил так. Куда девались и самоуверенность цирка "Миссури" и суетливое заиканье Парижа? Он говорил столь голо, столь бесхитростно, что от восторга и от срама я закрыл глаза можно ли было вынести, среди качающихся манекенов и китайского формуляра, простоту этого вихрастого мальчика, который через ночь и миры неуклюже искал загорелую руку какой-то Тани, перепачканную лесной малиной или чернильным карандашом конспектов?
- Простите меня. Я тогда еще не знал, что это такое. Я тогда ничего не знал... А теперь мне стыдно и больно. Милая Паули, когда завтра...
Я не расслышал конца этой фразы - ряд внезапных событий скрыл от меня, что именно будет завтра и будет ли оно. Мой стакан упал на пол и жалко по-бараньему заблеял. Грум почтительно изогнулся, при чем его белые зубы на черноте лица и ночи обозначились как плошки приветственной иллюминации. Смокинг господина Пике, скрывавший Марокко и минеральную воду, казался траурным. Диди держала куклу, несчастную куклу, облитую слюной и слезами сентиментального идиота. Да, я не ошибся, определив ее назначение - в неестественной широте зрачков, в духоте запахов, в блаженном облике куклы, закрывавшей и открывавшей фарфоровые диски, была развязка балаганных пантомим и сумасшедшего лета.
Послушливо рука моя отправилась в брючный карман. Я могу сказать, что в баре "Сплендид" меня больше не было. Известные нервные центры распоряжались дряблыми мускулами. А господин Пике уныло смотрел в зеркала, полные романтического света и страдающих манишек. Мою руку задержала рука Луиджи:
- Дай мне! Я сам...
Выстрел сначала показался нотой фокстрота. Еще в течение нескольких секунд ноги танцующих продолжали сокращаться. Господин Пике стоял как и прежде, безразлично ныряя в зеркальную глубь. Его грудные запонки блестели как слезы. Юр закачался, сделал несколько шагов в сторону двери, нет, в сторону антоновских яблок и бедной Тани, а потом грузно упал на ковер. Из приоткрытого детски рта сочилась кровь. Тогда зрачки Диди еще сильнее раскрылись. Она могла запеть сейчас свои бесстыдные куплеты о старом мэре, могла и показать обезумевшим танцорам средневековую косу, которая наверное хоронилась под скрипучим шелком пелерины.
Я смутно помню, как Юр сказал "напишите", как синие кепи увели куда-то фантаста, который кричал: "Уберите труп в морг! Я не хочу, чтобы Паули его целовала!..", как среди диванов и бутылок содовой бился сожженный, наконец-то, мотылек.
Музыкальный ублюдок снова задул в трубу. Иллюзорная жизнь возобновлялась. Я хотел отклонить ее, но беспощадный грум вывел меня на непогасающий костер площади Пигалль. Тогда я кинулся к пылавшей витрине. За стеклом наивный человек жил и улыбался. Его не трогали ни мой плач, ни угрозы. В ярости я разбил стекло. Я схватил его за шею, но голова легко отделилась от туловища, и голова продолжала гадко улыбаться. А человек стоял, как ни в чем не бывало. На его груди горели бриллиантовые слезы, под ними значилось: "Новинка. Лето 1925 года".
В комиссариате, куда меня привели, я старался сохранять спокойствие. Я только сухо заявил дежурному:
- Занесите в протокол, что вы - предатель. Вы предатель, как и он. Я не могу жить с восковыми подбородками и с пиджаками. Здесь был один живой человек, и вы его убили. Да, да, я видел кровь. А вы? Вы даже не полицейский. Вы - лето 25-го года.
17
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
Выходку пьяного буяна никто не подумал связать с традиционным убийством "на почве ревности". В переполненных до отказа вагонах метрополитена, склеенные потом и утренней неврастенией, служащие "Лионского Кредита" могли любоваться портретами моего фантаста. Его губы были размножены ротационными машинами газет "Matin" и "Journal". Они дрожали во всех ресторанах и на всех базарах. До половины двенадцатого Луиджи был королем этого душного города, наравне с креолкой Жозефиной Бэкер24 и с уличными мороженщиками. Его осуждали бородатые консьержки, брезгливо крича холостым шалопаям и лучам солнца: "Следует вытирать ноги". Загипнотизированные щелканьем клавиш и мистикой букв, малокровные машинистки в него влюблялись. Его обстоятельно допрашивал важный следователь с камнями в печени и с белоснежной совестью. В половине двенадцатого из Сены извлекли дорожную корзину с мелкоизрубленным трупом старухи и с гнилыми яблоками. Луиджи тотчас же был отдан забвению, густому и приторному, как коктейль китайца.
Я не удостоился даже мимолетного внимания. Мои жалобы на противозаконные подделки живых существ были отнесены за счет спирта. Кулаки полицейских наивно попробовали доказать мне реальность мира. В общей камере я давил клопов и подытоживал жизнь, среди прыщеватых сутенеров и неудачных мечтателей, которые продают порнографические карточки или примеривают чужие канотье. Я не справился ни с насекомыми, ни с жизнью: меня вывели на улицу. Отвыкший от солнечного света, я зажмурил глаза, натолкнулся на фонарь и сказал ему, со всей вежливостью проученного скандалиста: "Простите".
Потом я быстро затрусил по чересчур светлым улицам. Мне казалось, что за мною гонятся восковые снобы с площади Пигалль. Город, может быть, в душе и разделял мою тревогу, но он прикидывался вполне здоровым. Люди ели зеленые бобы и любили Мэри Пикфорд. На мелкие перебои никто не обращал внимания. Кто же мог взволноваться, узнав, что в магазине "Самаритен" дамы, спешно закупавшие остатки модной материи "каша", случайно раздавили незаконнорожденного ангела, или что на фабрике точных инструментов Кросса рабочий Дюбуа внезапно ослеп и воскликнул "занавес!" Меня не искали. Я затерялся в жизни, как эти мелкие трагедии в сорока столбцах газет.
Что мне было делать? Вот я свободен - черная вещица заключена в шкап следователя, и календарь уже предсказывает близкий конец лета. Счесть все происшедшее за гадкий сон и, отправившись на Монпарнас, заявить старым собутыльникам: "Ну, как дела? Работаете? А я, видите ли, собирал материал для новой книги"? Честность удерживала меня. Чем отличается Монпарнас от разбитой мною витрины? Не тем ли, что известные усовершенствования позволяют вдохновенным пиджакам краской покрывать холсты или исписывать листы блокнота? Я не хотел предать одной условности ради другой. Потом я так сжился с моими темными приятелями. Нельзя, однако, довольствоваться воспоминаниями. Требовались какие-то поступки, а я беседовал с фонарями и тосковал в уличных писсуарах. Я не знал, на что мне решиться. Кто-то кого-то убил. Правда, я должен был убить господина Пике, а вместо этого ревнивый Луиджи убил Юра. Но больше я не засуну в карман ту вещицу. Меня предали как тень на экране, когда вспыхивают люстры и зрители затирают выход. Я не имею права ни на третье измерение, ни на человеческую боль.