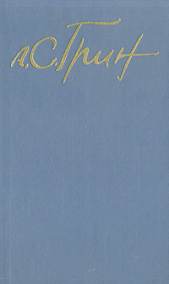Том 4. Очерки и рассказы 1895-1906

Том 4. Очерки и рассказы 1895-1906 читать книгу онлайн
В третий том Собрания сочинений Н.Г. Гарина-Михайловского вошли очерки и рассказы 1895–1906 гг.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот едут они в телеге — и муж, и жена, и вся их семья. Сидит с маленьким острым лицом человечек в шапке без козырька, из толстого сукна, покроя — не то какие носят ксендзы, не то наши арестанты. В таком же роде халат — длинный, неуклюжий, в котором маленькая фигурка полещука выглядывает на свет божий, как укутанная обезьянка. Зато голова его бабы представляет из себя окружность, диаметр которой средней величины колесо. Это местная прическа, местные шиньоны. Дамы Полесья неприхотливы: материалом для шиньона служит… солома. Солому эту в изобилии набивают они себе под волосы, в волосы, в платок, а искусный местный куафер придает всему этому пышный вид колеса, обмотанного громадным платком. Прическа, вследствие своей сложности, делается раз на всю неделю: от бани до бани. Свежему человеку страшно и подумать, что сделалось бы с его головой, если бы нацепить на нее такую тяжесть, заставив его при этом работать, и как работать — и в дождь и в жару, когда и без того кровь молотом бьет в голову, когда и без грязи в голове эта голова чешется от выступающей испарины, а тут еще и почесать рукою нельзя, а тем более нельзя достать того зверя, которому так на руку нечистоплотная голова. Еду мимо, смотрят на нас и смеются.
— Чему они смеются?
Владек смущенно машет рукой и говорит:
— А, дикий народ, — палец ему покажи, смеяться станет…
Однако этот дикий народ почти до последних мгновений сохранил в целости строй, который и до сих пор еще для многих является идеалом народной жизни.
Да, полещук гордится, а с ним гордятся и его друзья, что он, века вывариваясь в своем тесном общинном соку, сохранил всю свою старину, весь свой быт и до сих пор, как и при святом Владимире, ничего не продает, ничего не покупает. И до сих пор денежного рынка почти для него не существует. Эта шапка, сапоги, пышный убор — все, все свое.
Донимал было бесхитростного полещука поляк, еврей, но более сильная рука взяла его под опеку, и поляк и еврей сидят теперь на цепи и скалят голодные, но безвредные уже зубы на недосягаемого поле-щука.
Если случайно попал бы, да еще с женой, такой поле-щук в более культурные места, там будут хохотать, конечно, над этими выходцами из прошлой, везде в других местах уже отлетевшей жизни. Но ведь и полещук умеет хорошо смеяться над тем, кто и к ним забредет.
Забрели немцы: вежливые, тихие, в диковинных платьях. И много смеялись тогда в Полесье… Но когда эти немцы стали предлагать за болота, в которых только черти да лешие водились, утаскивая в эти болота пьяных, добродушных полещуков, и стали давать за десятину этих болот сто — двести рублей, безумные деньги, то от смеха все Полесье задрожало. Продали немцам и болота и леса и с интересом дикарей ждали, что будут делать немцы дальше.
Это было давно, и теперь дело рук немцев на виду: болота высушены, леса выкорчеваны, и железным кольцом охвачены разросшиеся в своих деревнях полещуки.
Тесно полещуку, задыхается он в своем наряде, в своем уборе, в железном кольце сильного своей культурой народа. Это уж не слабосильный поляк и еврей.
Мы остановились в селе, и я слушаю печальную раздраженную повесть о том, что было и что стало. И земли нет, и то, что есть, — от рук отбилось.
Выбивается из сил на своей ниве пахарь, выбивается из сил его изнуренная кляча, безнадежно вытягиваясь за немецким плугом, шутя увлекаемым четверкой сытых лошадей.
У полещука земля старая, истощенная, пашня мелкая, у немца — земля новая, чищобная, да еще навозом сдобренная.
И бросает полещук землю.
Но как же быть? Как возвратить полещуку его утерянный рай? Нет времени полещуку думать над этим: за леском уж синеет дымок — время обеда кончилось, пора идти на завод, и он укладывает в торбу свой недоеденный кусок. Это дым из трубы железного завода. Есть такие же трубы у стеклянных, бумажных и разных других фабрик. Есть сахарные заводы, рафинадные, и я, ваш покорный слуга, уже делаю изыскания для железной дороги.
Проклятие! Три проклятия! Что же делать? Отнять у немцев землю, уничтожить фабрики, заводы, не строить железные дороги? Что делать? Не признавать всей этой жизни или признавать, что жизнь идет не по тому или иному желанию, а по своим вечным неумолимым, как сама природа, законам? Что делать? Упрямо верить в свою утопию и этим, встав в противоречие со всей жизнью, с самим собою, выбросить себя из строя живых, или заняться изучением этих вечных законов движения вперед и, понимая их, работать уж не как гений-самоучка, а во всеоружии великой постигнутой науки — законов движения вперед человеческой жизни? Я размышляю, а в это время мой возница Владек выясняет с полещуками какой-то заинтересовавший его вопрос. Я прислушиваюсь. Действительно интересно, — как-то так выходит, что даже эти готовые из своего материала костюмы стоят на рынке дешевле, чем сырой материал, из которого они делаются. Вся тяжелая работа бабы таким образом не только ничего не стоит, но убавляет даже первоначальную стоимость товара.
— Мусите поэтому старую одежу бросаты, а вот такую уже заводить, — показывает на свою фабричную мой возница Владек.
Но некогда обедавшим с нами полещукам отвечать. Белый пар опять и свисток, и пока в своих еще костюмах — уродика-арестантика — полещуки спешат, точно погоняемые какой-то неведомой роковой силой, туда, где виднеется из-за леса дымок…
Новые звуки *
Ему много дано!..
Он родился, рос в пышном замке, окруженном великолепными садами. Он княжеский сын, богат, молод, силен, красив. Кроме всех этих благ, он одарен необыкновенным талантом: он скрипач. Еще в ранней молодости, едва держа крошечной ручкой смычок, он исторгал из скрипки дивные звуки. Родители, души в нем не чая, окружили его чрезвычайной заботливостью. Он рос, как нежный цветок в теплице: ни бури, ни грозы, ни ненастья.
Наконец-то!
Он вырос. Он знаменит. Какое счастье! Он — гордость всего своего княжеского рода. Вельможи в восторге от его игры. Знатные дамы наперерыв стараются овладеть его вниманием. Тщетно: он горд, недоступен и беспечен. Но вот в душу его вкралась любовь. Как нежный напиток, она согревала, веселила и опьяняла. Долго молча любовался он красавицей. Наконец, не вытерпел. Признался и… был отвергнут. Кем отвергнут? Бедной девушкой, цветочницей, которая случайно заходила в замок.
Юноша на все ласки, на все уверенья, что безгранично любит ее, получал один и тот же ответ:
— Обманешь!
— Что это значит?!
— Ты не понимаешь, что значит обман?
— Нет!
Девушка недоверчиво качала головой. Он действительно не понимал. Рожденный в богатстве, он с пеленок ни в ком и ни в чем не нуждался.
Его никогда не стесняли, не запугивали. Ему не приходилось быть в таком состоянии, когда возможен обман. Ему было чуждо это чувство, было чуждо и название этого чувства.
Наконец, чтоб покорить сердце молодой красавицы, он схватил свою скрипку. Он заранее торжествовал победу: его игра не раз приводила в восторг избраннейшую публику. Он заиграл. Льются прелестные звуки! Мягкие, словно теплые воздушные волны, они нежат, голубят, умиротворяют. Он кончил. Девушка молчала. Он был поражен. Он ожидал восторга, радости. А тут… гробовое молчание. Он недоумевал.
— Что же, не нравится тебе?
— А тебе нравится?
— Ни перед кем еще не играл я с таким увлечением, как перед тобой, — с жаром произнес юноша.
— И слушатели всегда восхищались? — насмешливо спросила девушка.
— Да!
— А знаешь почему!
— Почему?
— Потому что ты и твои слушатели сытые, довольные.
— Какие же тебе звуки нужны?
— Какие?.. Слезы, стоны, презренье, ненависть, проклятье!
Он снова начал играть, стараясь все это выразить звуками.
Ничего не выходило: он не знавал ни слез, ни стона, ни презренья, ни проклятья.
Девушка меж тем убежала. Юноша испытывал нечто совсем ему незнакомое, чему и названья не знал. Это была тоска, безысходная, сосущая тоска. Ему разом опротивело все. Он вышел из замка и пошел бесцельно бродить. Долго молча он ходил. Грусть все более им овладевала. Из глубины души у него вырвался звук. Он инстинктивно понял, что его называют «стоном».