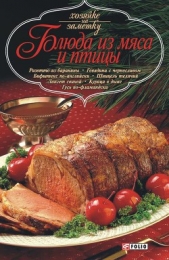Кровавый пуф. Книга 2. Две силы

Кровавый пуф. Книга 2. Две силы читать книгу онлайн
Первый роман знаменитого исторического писателя Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы» уже полюбился как читателю, так и зрителю, успевшему посмотреть его телеверсию на своих экранах.
Теперь перед вами самое зрелое, яркое и самое замалчиваемое произведение этого мастера — роман-дилогия «Кровавый пуф», — впервые издающееся спустя сто с лишним лет после прижизненной публикации.
Используя в нем, как и в «Петербургских трущобах», захватывающий авантюрный сюжет, Всеволод Крестовский воссоздает один из самых малоизвестных и крайне искаженных, оболганных в учебниках истории периодов в жизни нашего Отечества после крестьянского освобождения в 1861 году, проницательно вскрывает тайные причины объединенных действий самых разных сил, направленных на разрушение Российской империи.
Книга 2
Две силы
Хроника нового смутного времени Государства Российского
Крестовский В. В. Кровавый пуф: Роман в 2-х книгах. Книга 2. — М.: Современный писатель, 1995.
Текст печатается по изданию: Крестовский В. В. Собр. соч. в 8 тт. Т. 3–4. СПб.: Изд. т-ва "Общественная польза", 1904.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Константин молча последовал за своим ментором, и они поехали вслед за другими.
Оба довольно долгое время молчали. Обоим было как будто неловко чего-то.
Наконец Свитка первый решился нарушить это молчание, начинавшее становиться тягостным.
— И что вам, право, за охота была, Константин Семенович, вступаться за этого попа! — начал он поддельно мягким дружелюбным тоном.
Хвалынцев, ощутив внутри себя какое-то враждебное чувство, огородил себя им как будто щитом и кинул в лицо Свитке холодно-вопросительный взгляд.
— А по-вашему надо бы было аплодировать что ли, когда человека собаками травят? — немножко резко сказал он.
Свитка, заметив эту резкость тона и как стальную твердость холодного взгляда, тотчас же постарался придать своему голосу и выражению лица еще более мягкости и дружелюбия.
— Нет, не то, — заговорил он, — а так только, рассуждая что черт ли вам в нем, совсем посторонний человек, да и поп еще к тому же.
— Мне кажется, кто бы ни был — это решительно все равно! — не изменяя тона, возразил Хвалынцев.
— А мне так право досадно немножко, — продолжал Свитка, — все это так было хорошо, шло так мило, интимно так, и вдруг… Да и они все такие, право, славные ребята, и так были расположены к вам…
— Расположены? — перебил Хвалынцев, чувствуя, что злоба снова начинает подступать к нему. — Расположены, вы говорите? Ну, а я вам признаюсь, что я вовсе не расположен к ним! Я зол на самого себя, я готов самого себя презирать за ту подленькую щепетильность, за ту малодушную уступчивость, которая, из чувства обязанности гостеприимством, заставила меня безмолвно сидеть и быть свидетелем всей этой гнусности с самого ее начала… Я, не обинуясь, называю это подлостью в самом себе! Следовало не допустить этого в самом начале-с, а не тогда уже, как собаки стали рвать человека! Есть положения, знаете, когда чересчур покладливая деликатность, как у меня вот, переходит в низость, становится подлостью!
— Ах, голубчик мой, Константин Семенович! — хихикнул по обыкновению Свитка. — Ну, добро бы было из чего донкихотствовать, а то ведь сами посудите: с одной стороны порядочные люди, стоящие у одного с нами дела, а с другой какой-то поп-доносчик, и вдруг… И наконец, ведь все же это были не более как шутки!
— Порядочные люди! — презрительно усмехнулся Хвалынцев. — Порядочные люди, любезный мой друг, узнаются точно так же и по их шуткам, как и по серьезным делам; а с этими господами, стоящими, как вы говорите, у одного с нами дела, я, извините меня, рядом с ними ни у каких дел стоять не желаю!
Свитка окинул его беглым, удивленным и немножко даже встревоженным взглядом, но луч какой-то затаенной своекорыстной радости и торжества на одно мгновение блеснул в его взоре.
— Ах, ты, Господи, Боже мой! — пожал он плечами, — и из-за чего только человек волнуется! Да ведь говорю же вам, голубчик мой, что этот поп — это человек положительно вредный для нашего дела… Это доносчик, шпион, который, как и все они здесь, посажен на своем месте правительством, чтобы следить за каждым нашим шагом, подглядывать, да подслушивать! Да этих каналий, по-настоящему, на колокольнях вверх ногами вешать бы следовало! — уже с азартом досады заключил монолог свой Василий Свитка.
Хвалынцев поглядел ему в глаза, усмехнулся и молча повернул в сторону лицо свое.
— Чему вы усмехаетесь? — весь вспыхнув и словно булавкой уколотый, быстро спросил его приятель.
Константин ответил не сразу.
— Больно уж все вы, господа, как погляжу я, стрелять да вешать охочи! — с легким ироническим вздохом проговорил он, и разговор на этом оборвался, не возобновляясь уже ни единым словом до самого конца дороги. Обоим было досадно и как-то не по себе, оба были недовольны друг другом, а Хвалынцев отчасти даже и разочарован в своем менторе и друге.
XIII. Во время бессонной ночи
Вернувшись с охоты, Хвалынцев прошел прямо к себе во флигелек и попросил Свитку извиниться за него, буде спросят о нем, и сказать, что он чувствует себя слишком усталым. Ему не хотелось более ни видеть всех этих панов, ни якшаться с ними. Он еще раз твердо решил себе завтра же ехать отсюда. Нервы его были расстроены, раздражены, и состояние духа желчное и досадливое. Не то, чтоб он чересчур уже свысока взирал на всех этих панов, не то, чтобы чувствовал какое-либо свое превосходство пред ними; напротив, он казнился своим собственным малодушием, он в эти минуты действительно презирал самого себя и злобился на себя же. — Но при всем этом была еще и особая причина, которая вызывала и поддерживала его желчно-досадливое настроение: он все яснее и яснее чувствовал внутренний разлад с самим собою, чувствовал себя вполне чуждым всему и всем в этом крае, в этой жизни, для которых он отдал свою собственную жизнь и деятельность и отдал "без поворота", как казалось ему. Что тут, в этой панской среде, задумано и стряпается нечто большое, нечто серьезное, это чувствовалось само собою; но опять же чувствовалось ему и то, что вся эта стряпня и все эти их задачи, кажись, совсем не такие, о которых идеально мечтал еще столь недавно наш юный друг, думая об "общем деле". Мало того, что "общее дело" он начинал находить далеко не «общим», но сверх того минутами ему вдруг стало казаться, что в отношении его-то самого это вовсе лишнее и совсем постороннее дело, что никаких этих революций совсем даже не нужно ему делать купно с какими-то польскими панами. Он наконец сознался себе, что с поразительным легкомыслием свои собственные мечты — и не более как мечты — принимал до сих пор за "общее дело", тогда как в сущности даже вовсе не знает, что это за дело и куда оно клонит. Он сознался себе, что просто с завязанными глазами кинулся, очертя голову, на какой-то неизвестный ему путь, гадательно предположив себе заранее, что путь этот должен быть таким-то и таким-то и приведет к такой-то вот цели. И вдруг теперь оказывается, что путь вовсе не таков, как о нем думалось, а цель — совсем другая, посторонняя и даже Бог ее знает какая именно…
Краска стыда выступила на его щеки. В эти минуты он самому себе начинал казаться жалким и смешным человеком, и даже не человеком, а глупым мальчишкой, мышонком, собравшимся творить великие дела и вдруг попавшимся в ловушку.
Это печальное сознание, эта едкая досада, этот стыд жгучий до слез, до боли, до скрежета зубного, и рядом с ними образ Цезарины — увлекательный, неотразимо-манящий и зовущий за собою всем обаянием молодой, впервые в жизни почувствованной страсти — страсти еще неудовлетворенной, но полной самых живых, самых светлых и сладких надежд…
В этих-то двух крайностях, в этих двух несовместимых противоположностях и крылась настоящая причина того внутреннего разлада с самим собою, который Хвалынцев ощущал тем сильнее, чем более вглядывался в глубь себя и в явления окружавшей его среды и жизни.
Он лег в постель раньше обыкновенного, но очень и очень долго ему не спалось.
К наплыву этих дум и ощущений приплеталось еще очень много других, посторонних. Он, например, испытывал злобное чувство враждебности ко всем этим Котырлам, Селявам, Шпарагам, Косачам и Копцам, ко всем этим позирующим, гарцующим и рисующимся паничам в чамарках и конфедератках, ко всем этим самодовольным и нагло-шляхетным солидным панам, и к их ханжеско-патриотическим супругам, и к кокетничающим паням, к сахаристым взаимным учтивостям всех этих господ, к учтивостям, вовсе ненужным в простой обиходной жизни и даже как-то странно режущим глаз постороннему человеку, к их приторным, сантиментальным ухаживаньям за этими панями и паненками, к их нахальной, хвастливой похвальбе, к их манерам, потом к свинячеству их домашней обстановки и жизни, к спесиво-надутым претензиям, к их шляхетности и к гонору, даже к красиво-театральным эффектам их ксендза и костела. Даже их радушие казалось приторным, деланным, а потому противным, гостеприимство же излишним и тягостно-обременительным. Эта враждебность минутами доходила в Хвалынцеве до раздражительной, мелочной придирчивости: он с злобным удовольствием старался выискивать в них все дурное, а не видеть ничего хорошего было ему в то же время так легко и просто, потому что оно самым естественным образом делалось как-то так, что ничто хорошее не приходило в голову, настроенную столь односторонне. И эту враждебность возбуждало в его душе не что иное, как гнетущее чувство собственного внутреннего одиночества, собственной отчужденности, болезненное сознание, что я здесь как-то лишний, посторонний, что я здесь всем чужд и мне равно все чужды — все и во всем, что, невзирая на все радушие, чувствуешь себя все-таки в каких-то холодных тисках, все-таки внутренно-замкнутым человеком и, несмотря на какое-то воображаемое "общее дело", не находишь ни единой общей точки нравственного соприкосновения с ними, тогда как вот хотя бы этот поп, этот отец Сильвестр — странное дело! — как-то и ближе, и роднее кажется почему-то… Ну, казалось бы, "что ему Гекуба и что он ей!" и не особенно-то он попам сочувствовал еще с университета, а религиозным индифферентистом самого себя почитал, а вот — поди ж ты! с этим самым попом Сильвестром сразу почувствовал себя как-то совсем иначе, чем с милыми, любезными панами: как-то проще, доступнее, сердечнее и легче… Ведь уж на что бы вот, казалось, Котырло и Свитка: товар лицом ему показывают, всячески стараются убедить, заставить его верить, а все не верится, все фальшь какая-то чуется в их увереньях; а поп Сильвестр, вовсе не думая и не заботясь о доверии, между тем сразу как-то бесхитростно вызывает его.