Том 6. С того берега. Долг прежде всего
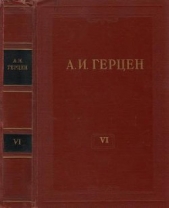
Том 6. С того берега. Долг прежде всего читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Руссо и Гегель – христиане.
Робеспьер и С.-Жюст – монархисты.
Германская наука – спекулятивная религия; республика Конвента – пентархический абсолютизм и вместе с тем церковь. Вместо символа веры явились гражданские догматы. Собрание и правительство священнодействовало мистерию народного освобождения. Законодатель сделался жрецом, прорицателем и возвещал добродушно и без иронии неизменные, непогрешительные приговоры во имя самодержавия народного.
Народ, как разумеется, оставался попрежнему «мирянином», управляемым; для него ничего не изменилось, и oн присутствовал при политических литургиях, так же ничего не понимая, как при религиозных.
Но страшное имя Свободы замешалось в мире привычки, обряда и авторитета. Оно запало в сердца; оно раздалось в ушах и не могло оставаться страдательным; оно бродило, разъедало основы общественного здания, лиха беда была привиться в одной точке, разложить одну каплю старой крови. С этим ядом в жилах нельзя спасти ветхое тело. Сознание близкой опасности сильно выразилось после безумной эпохи императорства, все глубокие умы того времени ждали катаклизм, боялись его. Легитимист Шатобриан и Ламенне, тогда еще аббат, указывали его. Кровавый террорист католицизма, Местр, боясь его, подавал одну руку папе, другую палачу. Гегель подвязывал паруса своей философии, так гордо и свободно плывшей по морю логики, боясь далеко уплыть от берегов и быть захваченному шквалом. Нибур, томимый тем же пророчеством, умер, увидя 1830 г. и Июльскую революцию. Целая школа образовалась в Германии, мечтавшая остановить будущее прошедшим, трупом отца припереть дверь новорожденному. – Vanitas vanitatum! [65]
Два исполина пришли, наконец, торжественно заключить историческую фазу.
Старческая фигура Гёте, не делящая интересов, кипящих вокруг, отчужденная от среды, стоит спокойно, замыкая два прошедших у входа в нашу эпоху. Он тяготит над современниками и примиряет с былым. Старец был еще жив, когда явился и исчез единственный поэт XIX столетия. Поэт сомнения и негодования, духовник, палач и жертва вместе; он наскоро прочел скептическую отходную дряхлому миру и умер 37 лет в возрождавшейся Греции, куда бежал, чтоб только не видеть «берегов своей родины».
За ним замолкло все. И никто не обратил внимания на бесплодность века, на совершенное отсутствие творчества. Сначала он еще был освещен заревом XVIII столетия, он блистал его славой, гордился его людьми. По мере, как эти звезды другого неба заходили, сумерки и мгла падали на все; повсюду бессилие, посредственность, мелкость – и едва заметная полоска на востоке, намекающая на дальнее утро, перед наступлением которого разразится не одна туча.
Явились пророки наконец, возвещавшие близкое несчастие и дальнее искупление. На них смотрели как на юродивых, их новый язык возмущал, их слова принимались за бред. Толпа не хочет, чтоб ее будили, она просит, чтоб ее оставили в покое с ее жалким бытом, с ее пошлыми привычками; она хочет, как Фридерик II, умереть, не меняя грязного белья. Ничто в мире не могло так удовлетворить этому скромному желанию, как мещанская монархия.
Но разложение шло своим чередом, «подземный крот» работал неутомимо. Все власти, все учреждения были разъедаемы скрытым раком; 24 февраля 1848 г. болезнь сделалась острой из хронической. Французская республика была возвещена миру трубою последнего суда. Немощь, хилость старого общественного устройства становились очевидны, все стало распускаться, развязываться, все перемешалось и именно держится на этой путанице. Революционеры сделались консерваторами, консерваторы анархистами; республика убила последние свободные учреждения, уцелевшие при королях; родина Вольтера бросилась в ханжество. Все побеждены, все побеждено, а победителя нет…
Когда многие надеялись, мы говорили им: это не выздоровление, это румянец чахотки. Смелые мыслию, дерзкие на язык, мы не побоялись ни исследовать зло, ни высказать его, а теперь выступает холодный пот на лбу. Я первый бледнею, трушу перед темной ночью, которая наступает; дрожь пробегает по коже при мысли, что наши предсказания сбываются – так скоро, что их совершение – так неотразимо…
Прощай, отходящий мир, прощай, Европа!
– А мы что сделаем из себя?
…Последние звенья, связующие два мира, не принадлежащие ни к тому, ни к другому; люди, отвязавшиеся от рода, разлученные с средою, покинутые на себя; люди ненужные, потому что не можем делить ни дряхлости одних, ни младенчества других, нам нету места ни за одним столом. Люди отрицания для прошедшего, люди отвлеченных построений в будущем, мы не имеем достояния ни в том, ни в другом, и в этом равно свидетельство нашей силы и ее ненужности.
Идти бы прочь… Своею жизнию начать освобождение, протест, новый быт… Как будто мы в самом деле так свободны от старого? Разве наши добродетели и наши пороки, наши страсти и, главное, наши привычки не принадлежат этому миру, с которым мы развелись только в убеждениях?
Что же мы сделаем в девственных лесах, – мы, которые не можем провести утра, не прочитав пяти журналов, мы, у которых только и осталось поэзии в бое с старым миром? что?.. Сознаемся откровенно, мы плохие Робинзоны.
Разве ушедшие в Америку не снесли с собою туда старую Англию?
И разве вдали мы не будем слышать стоны, разве можно отвернуться, закрыть глаза, заткнуть уши – преднамеренно не знать, упорно молчать, т. е. признаться побежденным, сдаться? Это невозможно! Наши враги должны знать, что есть независимые люди, которые ни за что не поступятся свободной речью, пока топор не прошел между их головой и туловищем, пока веревка им не стянула шею.
Итак, пусть раздается наше слово!
…А кому говорить?.. о чем? – я, право, не знаю, только это сильнее меня…
Цюрих, 21 декабря 1849 г.
VII
Omnia меа mecum porto [66] *
Ce n'est pas Catilina qui est à vos portes – c'est la mort! [67]
Proudhon (Voix du Peuple).
Komm her, wir setzen uns zu Tisch!
Wen sollte solche Narrheit rühren?
Die Welt geht auseinander wie ein fauler Fisch,
Wir wollen sie nicht balsamieren. [68]
Видимая, старая, официальная Европа не спит – она умирает!
Последние слабые и болезненные остатки прежней жизни едва достаточны, чтоб удержать на несколько времени распадающиеся части тела, которые стремятся к новым сочетаниям, к развитию иных форм.
Повидимому, еще многое стоит прочно, дела идут своим чередом, судьи судят, церкви открыты, биржи кипят деятельностию, войска маневрируют, дворцы блестят огнями – но дух жизни отлетел, на сердце у всех неспокойно, смерть за плечами, и, в сущности, ничего не идет. В сущности, нет ни церкви, ни войска, ни правительства, ни суда – все превратилось в полицию. Полиция хранит, спасает Европу, под ее благословением и кровом стоят троны и алтари, это гальваническая струя, которою насильственно поддерживают жизнь, чтоб выиграть настоящую минуту. Но разъедающий огонь болезни не потушен, его вогнали только внутрь, он скрыт. Все эти почернелые стены и твердыни, которые, кажется, своей старостию приобрели всегдашность скал, – ненадежны; они похожи на пни, долго остающиеся после порубки леса, они хранят вид упорной несокрушимости до тех пор, пока их не толкнет кто-нибудь ногой.
Многие не видят смерти только потому, что они под смертью воображают какое-то уничтожение. Смерть не уничтожает составных частей, а развязывает их от прежнего единства, дает им волю существовать при иных условиях. Разумеется, целая часть света не может сгинуть с лица земли; она останется так, как Рим остался в средних веках; она разойдется, распустится в грядущей Европе и потеряет свой теперешний характер, подчиняясь новому и с тем вместе влияя на него. Наследство, оставленное отцом сыну, в физиологическом и гражданском смысле, продолжает жизнь отца за гробом; тем не менее, между ними смерть – так, как между Римом Юлия Цезаря и Римом Григория VII [69].


























