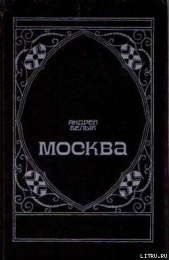Том 4. Маски

Том 4. Маски читать книгу онлайн
Андрей Белый (1880–1934) вошел в русскую литературу как теоретик символизма, философ, поэт и прозаик. Его творчество искрящееся, но холодное, основанное на парадоксах и контрастах.
В четвертый том Собрания сочинений включен роман «Маски» — последняя из задуманных писателем трех частей единого произведения о Москве.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Щелк: его нет!
Точно кто-то, невидимый, зубы покажет и светом куснет; щелк: пустая стекляшечка; в ней — волосинка иль — нерв: он сгорит; и павлиньи сияния смыслов, — стекло, пустота, философия!
Смысл — болезнь нерва; здоровая жизнь, — «гулэ ву».
— Николай Николаевич, — правильно: ну и сидели бы в «Баре-Пэаре»… Обходы больных, диагнозы, — понятно: преддверие «бара». А вы записались в кадетскую партию; вы козыряете лозунгом: где же тут логика?
Бедно одетою, бледненькой девочкой, за ординатором, Тер-Препопанцем, бывало, бежит: в номер два, в номер три, в номер пять, в номер шесть; и халат цвета перца, халат цвета псиного (серь), — с головою, с пустою стекляшкою, с перегорелою в ней волосиночкой, сивый и серый, поваленный в бреды — встав, липнет:
— Сестрица!
— Сестра!
Аведик Дереникович Тер-Препопанц улыбается ей:
— Популярности хоть отбавляй!
И склонив вавилонский свой профиль, Тиглата-Палассера, Салманасара, отчетливо он стетоскопом постукивает:
— Спали?
— Ели?
— Стул — как?
А под фартучком, точно под снежным покровом, — голубка, малютка (всего двадцать лет ведь) выслушивает; и пучочек волосиков с отблеском золота, — рус; и, как белая тень, на стене; в перемельках, как бабочка; порх, носик тыкнется здесь; носик — там; такой маленький, беленький; рот стиснут крепко, чтобы разомкнуться для шепота:
— Сделано!
И не сказал бы, что в смехе овальные губы ее выкругляются сладкими долями яблока: весело, молодо, бодро; прочь фартук: ребячит, — с припрыгами; голос — арфичный, грудной; многострунная арфа, — не грудь!
И никто б не сказал, что глазенки бесцветные, с порхами и с переморгами, станут глазищами выпуклыми, чтобы отблесками золотистой слезы бриллиантить: как ланьи; умеют голубить и голубенеть, не сказали б, что гулькает ротик.
И кажется маленькой, гибкой, овальной какою-то ланью, когда снимет фартучек; коли в голубеньком платье и коли защурит глаза, — точно кот, голубой, поет песни; протянутой бархатной лапочкой гладит морщавую голову.
Коли «дурак» ее молод, — сестра молодая; а коли «дурак» ее стар, как с Морозкой снегурочка; коли ей голову в грудь с причитаньем уронит — Корделия с Лиром.
Корделия с Лиром
В обходе — не та: руки — трепет: неловкая!
— Ну же…
— Эхма!
— Вы — не эдак: не так.
При Пэпэшином брюхе, под Тер-Препопанцевым носом, чтоб не разронять поручений, хваталась за книжку (болталась на фартучке); и к карандашику — носиком:
— Ванна.
— Пузырь.
— Порошок.
— Растиранье.
— Термометр.
Тому-то, тогда-то, — то; этому — это-то. Тер-Препопанц, сам добряш, — защищает:
— Оказывает благотворное действие!
А Николай Николаич, Пэпэш-Довлиаш, — тому некогда видеть: часы нарасхват: диагноз, семинарии, лекции, вечером — в «Баре — Пэаре»: он: с неграми.
— Дэ… Психология, то есть — бирюльки… Ну — пусть себе вертится здесь, пока что; вода — тоже безвредица, а не лекарство: пусть думают, — кали-броматум.
Бывало — шурк, топоты: по коридорам, ломаяся броской походкой, бежит Николай Николаич за пузом своим; за ним — пять ассистентов халатами белыми плещут; однажды, как мышку, накрыл он ее: она голову одеколоном тройным растирала кому-то.
И ей Николай Николаич:
— Движение сердца?… Здесь — клиника нервных болезней, — совсем не сердечных.
Бедром нервно вздрогнул; и — улепетнул; и за ним ассистенты, все пять, улепетывали.
Препопанц, Аведик Дереникович, ей:
— Вы ступайте к Плетневу; научит: движение мускула, нерва моторного, — сердце… Вы нерв изучайте.
А глупое сердце подтукнет; свой ротик раскрывши, моргает: как белая тень, — на стене.
Так снежинка, сплошной бриллиант, тая, выглядит: капелькой сырости.
А Плечепляткин, студент, все, бывало, поплевывает:
— Затрапезная, вялая…
Но — бирюзовые трапезы приготовляла больным. Николай Галзаков:
— Не горюйте, сестрица. Матвей Несотвеев:
— Мы с вами, — болезная.
— Я вот сестру, хоть умру, — не забуду; учила добру. Так ее поминали.
Вода — не лекарство; а — взбрызни водою, а — дай воду, — жизнь!
Служба кончена, — взапуски с листьями, ветром гонимыми, карими, красными, по переулкам — Жебривому, Брикову, Африкову и Моморову до Табачихинского — к Василисе Сергевне, к профессорше, чтобы узнать поподробней о пёсике Томке, которым забредил профессор Коробкин; узнать, при чем тряпка, которую пес принес в дом; заодно уж за красками: для Пантукана.
Узнала, что тряпкою рот затыкали — профессору: вообразил себя псом.
Дома — мать, Домна Львовна, с пакетиками: для профессора, — одеколон тройной, сладости и репродукций альбом (Микель-Анджело) — Элеонора Леоновна Тителева занесла.
Утром — ветер: порывистый, шаткий; калошики, зонтик — пора; за забор перезубренный, в глубь разметенной Дорожки, с которой завеялись листья; и вот он из веток является, — розово-белый подъезд; над подъездом же, каменные разворохи плюща пропоровши, напучившись тупо, — баранная морда, фасонистый фавн, Николай Николаевич номер второй, — рококовую рожу рвет хохотом, огогого! «Просим, просим: не выпустим!»
Там — два окна; там старик этот пестрый просунулся носом и черной заплатою; там — ее смысл, ее жизнь, ее все!
Вырезаясь из неба, под звездами
Утро.
Какая-то вся осердеченно быстрая; воздух меняла, когда прибирала; очки, разрезалка, флакон, — при руке; свечу — прочь, потому что боялся: жегло, — злое, желтое — жгло.
Все-то линии рук рисовали ему синусоиды; точно крылатая; мысли — звук рун; ей под горло от груди, от радостной арфы, как руруру-ру!
Точно гром!
В белом фартучке сядет при кресле; и глаз свой, то котий, то ланий — к нему; а дежурство отбыв, — появляется снова.
Из вечера мглового месяц — перловый; белясы метлясые травы; а лист — шелестит; окно — настежь; из кресла — Иван, брат, — осетрий свой нос растаращит на месяц ноздрями, пещерами; усом, как граблею, в окна кусается: с лаями; трясоголовый, растрепанный; глаз, как огонь.
Кто-то станет и скажет в окно:
— Дуролопа!
— А вы бы потише.
И — штору опустит; и — слушает бред: —
Раз он, халат расплеснув, лоб утесом поставив, забил разрезалкой по воздуху, громко вылавливая — стишок, собственный:
Серафима Сергевна — рукой за флакон: чувства — дыбом в нем; волосы — дыбом; трет голову; свои седины, протертые одеколоном, в простертые дымы годин, точно в сон, — клонит он.
Появилась с котом:
— Кот, котище!
В колени. Котище — рурычит; катают кота; кот — в ца-рап; а «Иван» — в уверенье, что он кота на голову надевал: вместо шапки; и коту — принялись приучать, чтобы, вытравив старую ассоциацию, новую в память, поставить.
— Вот, — Васенька!
— Очень забавная штука!
И сел, губой шлепнул, — с котом.
Но лукавую шутку подметивши в бреде; она эту шутку выращивала, чтоб отвлечь от страданья; лукавец за шуткою, как из норы, вылезал; и с посапом смотрел, как она представляла — оленя, слона.