Том 1. Рассказы 1906-1912
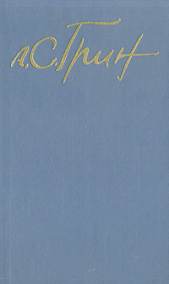
Том 1. Рассказы 1906-1912 читать книгу онлайн
Собрание сочинений Александра Степановича Грина (1880–1932) открывают рассказы, написанные в 1906–1912 гг. Вступительная статья, составление В. Ковского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он качнул головой и, откинувшись назад так, что горб его туго уперся в плетеную спинку кресла, полез в карман за деньгами.
Мы все были так огорошены, что первое время царило только глубокое, недоумевающее молчание. Он был пьян, это несомненно. Однако необходимость проучить зазнавшегося горбуна стала слишком очевидной. Инженер выпрямился и спросил высоким, ненатуральным голосом:
— Это как? Шутка?..
— Шутка?! О, конечно, шутка! — сказал Гарт, шумно дыша и стараясь смотреть инженеру прямо в глаза. — Не сомневайтесь, молодой человек… Шутка-с!..
Лицо его побледнело, и мелкие, блестящие капли пота выступили на лбу. Жалкая, нахальная улыбка растягивала углы губ, и нервно вздрагивал широкий, тупой подбородок.
— Я плачу сам! — грубо сказал рецензент, закручивая усы. — Вы пьяны! Вот! А я плачу сам!
— Нет-с! — настойчиво возразил горбун, кладя на стол портмоне. — Вы нищий. Вы не платите. Плачу я.
— Черт побери! — заревел поэт, вскакивая и разминая плечи. — Вы что тут ломаетесь, господин добрейший? А?
— Я добрейший господин. Хорошо. Я плачу.
Все его тело начинала бить мелкая, лихорадочная дрожь. Зубы стучали, и колени смешно подпрыгивали рядом, одно с другим.
— Если вы скандалить хотите… — грозно протянул беллетрист, пуская клубы дыма прямо в нос горбуну, — если так, то не советую! Смиритесь, милейший Гарт, смиритесь, едят вас мухи с комарами! Слышите?
— Да! — с жадной радостью подхватил горбун. — Меня едят мухи с комарами, но я плачу!.. За вас! Я плачу за весь этот сброд! Да!..
— Ах ты, горбун несчастный! — с негодованием вскричала Клодина, бледнея от гнева. — Мы — сброд?! Вы это слышите, господа? Ах ты, уродина!
— Мой миленький горбунок! — фыркнула Нина. — Деточка ты моя большелобая!
— Горбунок! Конек-горбунок! Ха-ха-ха! — расхохотался поэт. — И с чего это он? А?
Я посмотрел на горбуна и невольно вздрогнул.
Он тяжело встал, хрипло засмеялся, оскалив крупные, белые зубы, хотел сказать что-то и не мог. Грузный, уродливый, взъерошенный и пьяный, он производил гнетущее, скверное впечатление. На красных пальцах его блестели крупные брильянты, манишка выбилась и топорщилась впереди, как горб, галстук сбился на сторону. Он набирал воздуха, задыхался, взматывал большой, круглой головой, бледнел, краснел. Вдруг тонкий, визгливый, истерически-звонкий голос ворвался в наши уши целым градом торопливых, сбивчивых и озлобленных, страстных слов.
Первое время все с напряженным недоумением, с кривыми улыбками смотрели друг на друга, не зная, что думать и что делать, до такой степени были сумбурны и непонятны слова горбуна. И только через минуту, не раньше, когда уши привыкли к скрипучему, тонкому крику, клочьями визга и стона сверлившему мозг, — мы начали разбирать, в чем дело. И тут нервный, судорожный хохоток загорелся в моей груди — так было нелепо и до нелепости жалко то, что кричал пьяный, обезумевший Гарт.
— Или вы хотите уверить меня, что я не сказал вам дерзость? Разве я пьян?.. И что вам весело?.. А разве я не плюнул словами в ваши красивые, пьяные, глупые хари?! И все-таки весело? И смешно, что взбеленился горбун, и кричит, и топает? А что же вы не гоните меня? Почему не бьете меня кулаками в кривую спину?! Или боитесь? Или чувствуете мое превосходство? У вас прямые спины, но я лучше вас, да, да, веселые молодые люди!.. Я тоньше и глубже вас! Я умнее и злее вас! У меня красивые, редкие мысли! И глубокие, нежные чувства!.. Ум! Живой, острый ум!.. Душа!.. Все!.. А у вас? Прямые, голые спины, — и что же, что же еще? Я богаче вас! Я из золота, понимаете ли вы — я весь из золота!.. Горб мой из золота, и ноги, и нос, и руки!.. Я весь из цветных бумажек, хрустящих, блаженных листиков!.. А вы — видали их? Держали их? Я пошел к вам!.. Я подумал и возгордился своей мыслью — своей тонкой, богатой мыслью!.. Я сказал себе — пусть живут прямые, красивые люди!.. И нежные женщины!.. И если жизнь их лучше моей — пусть!.. Я сяду с ними, толстый, неуклюжий, неприятный!.. Я буду смеяться!.. Притворюсь, что мне весело и хорошо, что мне все равно!.. Буду угодливо смеяться, и хихикать, и ждать!.. Тогда поймут мою богатую, мою бесценную мысль!.. И поймут ожидание! И я увижу простые, открытые лица, как будто я такой же, такой же, как вы, хари!..
Белое, мокрое лицо его прыгало и горело в электрическом свете безумно, истерической судорогой. Вряд ли он сознавал, что говорит. Он был мертвецки пьян, вне сомнения. Но и мы были пьяны. От этого еще тоньше и острее сверкали наши мысли, прыгая и скрещиваясь, под словами горбуна, как стальные, гнутые шпаги.
Из большого, искривленного рта летел крик, похожий на рыдание, и стон, похожий на смех. Он вздрагивал и бороздил душный, пьяный воздух, как вспугнутый табун лошадей бороздит пышную, желтую рожь. Это кричал горбун, и весь отдельный кабинет кричал вместе с ним, безобразно и жутко.
— Подойдет ко мне и улыбнется мне, а не вам улыбнется, псы!.. Не потому, что я богат!.. Не потому, что жалко меня!.. Но поймет незлобие мое, мое «Пусть!» поймет!.. Что нет во мне злобы к вам! И сядет!.. Сядет, и заговорит, и будет мило шутить… и смотреть будет так ласково, так спокойно!.. И будет думать, что обманула меня!.. Ха!.. А я скажу ей: «Не надо!.. Я одинок — но не надо! Мне больно — но не надо!.. Пощадите меня!.. Пусть будет вам хорошо — целуйтесь, пейте, — вы поняли меня!.. И за это, за это — спасибо вам!..» Эй, вы! Я вывернул перед вами свой горб — плюньте в него!.. Пусть будет и красота, и цветы, и солнце, и гибкие, стройные члены, и любовь!.. И жизнь пусть будет, сладкая, страшная жизнь, если поняла она мое… одно слово мое поняла: «Пусть!»
И эти последние слова горбун выкрикнул с такой безумной тоской, с такой ненасытной жаждой всего, чему он говорил слезливо и бессильно: «Пусть!» — что сразу умолк сам, измученный и окаменевший. А потом сел — тусклый, неприятный, страшный, с пьяным, безобразным лицом, залитым пьяными слезами…
Я оглянулся, но никого уже не было. Все ушли постепенно, один за другим.
Чувство странной неловкости и тяжести не позволяло мне оставаться далее. Я взял шляпу и направился к выходу.
Ерошка
Ерошка ходил всегда в длинной рубахе без пояса и считался мужиком слабоумным, лядащим. Вихры рыжих волос, смешно торчавших из-под маленького, приплюснутого картуза, придавали его одутловатому, веснушчатому лицу выражение постоянного беспокойства и нетерпения. Глаза у него были голубые, загнанные, а бородка белесоватая и остроконечная.
Впрочем, особенно его не трогали и, если когда дразнили — то так, мимоходом, скорее по привычке, без того особенного, злобного упорства, каким отличается русский человек. Даже прозвище Ерошки было «блажной», а не «чудной». Ерошка не задумывался. Капризы его были не сложны и заключались, с одной стороны, в какой-то необыкновенно длинной и хитрой дудке, сделанной им самим; с другой — в любви к скандалам и происшествиям. Удивительно, что сам он был нрава смирного, но страшно любил смотреть всякую драку, буйство, даже грызню собак. О драках он мог говорить долго и обстоятельно, размахивая руками и захлебываясь от восторга.
— Ка-эк двинет! Ка-эк двинет, братец ты мой! — говорил он, прищелкивая языком. — Зуб выхлеснул, — добавлял он, помолчав. — Скулу всю разворотил!
Разговор переходил на другое; о драке уже забывалось, но вдруг Ерошка вставлял, снова и неожиданно:
— Себе лоб раскровянил!
На дудке он играл больше весной, забравшись куда-нибудь в огород, между кучей сухого навоза и кустом репейника. Сидел на корточках, свистел заунывно и нескладно, часто останавливаясь и прислушиваясь к тихим вечерним отголоскам, полным мирной грусти и жалобы. Бежали мальчишки, покрикивая:
— Ерошка-дергач!
Он, вероятно, не слыхал их. Случалось, что какой-нибудь, особенно назойливый парень, перегнувшись через изгородь и ухарски заломив шапку, начинал подвывать пьяным голосом, но и тогда Ерошка ограничивался одним кратким замечанием:


























