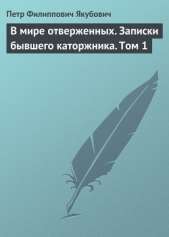В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
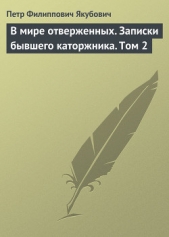
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2 читать книгу онлайн
«…Следует прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводят людей в тюрьму и каторгу, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих в стране законов. Однако всем нам известно (и профессору тем более), что, например, пятьдесят лет назад, во времена «Записок из Мертвого Дома», в России существовал закон, по которому один человек владел другим как вещью, как скотом, и нарушение последним этого закона нередко влекло за собой ссылку в Сибирь и даже каторжные работы. Существовал и другой также закон, в силу которого человек, «забритый» в солдаты, становился уже мертвым человеком, в редких только случаях возвращавшимся к прежней свободной жизни (николаевская служба продолжалась четверть века), и не мудрено, что, по словам поэта, «ужас народа при слове набор подобен был ужасу казни»…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Таким искательным языком говорило вначале большинство новоприбывших. От среднего типа старой партии такого языка я давно уже не слыхал. Старые шелайские арестанты, «набалованные» ли нашим деликатным обращением, «просвещенные» ли шестиглазовским суровым режимом, держались более горделиво и независимо, были в высшей степени амбициозны и чутки насчет охраны своего человеческого достоинства в отношениях с нами. И как только новую партию смешали со старой, разбив по всем девяти камерам, так этот независимый дух сообщился сейчас же и большинству вновь пришедших.
В новой камере, куда переведены были мы с Штейнгартом, очутилось с нами шестеро новичков. Один из них, Грибский по фамилии, сын мелкого чиновника, где-то, когда-то учился и пришел в каторгу за фальшивые кредитки. В обращении с нами он старался блеснуть книжными оборотами речи, ужимочками и манерами якобы светского пошиба, но за этой внешней полированностью скрывалось самое несосветимое невежество и мелкая душонка. Заветнейшие помышления этого человека вертелись около самой грубой и первобытной клубнички и скоро даже среди арестантов он получил циничную кличку «любителя». Грибский тотчас же внес в камеру такую зловонную атмосферу словесной распущенности, что мы с Штейнгартом то и дело ежились, выслушивая эти бесконечные скабрезные анекдоты, это грязное и извращенное остроумие. Как раз перед появлением «любителя» в нашей камере составился в этом отношении превосходнейший подбор обитателей. Однажды вечером, когда публика была в высшей степени благодушно настроена, Штейнгарту вздумалось предложить ей никогда не произносить, находясь под замком, от вечерней до утренней поверки, ни одного площадного слова. «А кто провинится — тому банки!» — шутливо прибавил я… Вопреки всякому ожиданию, камера приняла предложение с восторгом… К чести большинства ее обитателей надо сказать, что оно и без того отличалось большой воздержанностью на язык и прибегало к циничной ругани лишь в самых исключительных; случаях. Предложение было поэтому направлено главным образом против Чирка. Он тотчас же зачесался по всем направлениям тела, что было у него всегда признаком сильного волнения, и заговорил жалобно:
— И хитрые ж вы, братцы, я погляжу! Сами знаете, что я без этого слова жить не могу… Вам-то легко отвыкнуть, а мне, значит, кажинный день банок придется отведывать? Нет, я не согласен!
И с языка его тут же сорвалось запретное выражение… Тогда Сохатый, Луньков, Ногайцев, Железный Кот, Медвежье Ушко и другие кинулись на него всей оравой и отрубили такие здоровые «банки», что злополучный Чирок орал не своим голосом и клялся и божился, что станет впредь остерегаться… И точно, хотя ему и чаще других приходилось получать банки, но он начал с этих пор, насколько мог, «остерегаться», и камера наша сделалась прямо образцовой по сдержанности на язык. Случалось, что усердные ревнители нравственности отрубали банки даже случайно заходившим к нам обитателям чужих камер…
И вот вся эта воздержанность пошла прахом с появлением шестерых новичков, ни образ мыслей которых, ни характер, ни внутренняя ценность решительно никому не были известны. Аборигены тюрьмы, не успевшие еще сблизиться с новыми товарищами, не только не останавливали их, но и сами начали опять мало-помалу заражаться дурным примером: снова загремела кругом кабацкая брань, снова нравственная атмосфера сделалась душной и нестерпимо смрадной. Что касается «любителя» Грибского, то он, казалось, и не замечал того, что мы с Штейнгартом чувствуем себя в его обществе отвратительно, и продолжал то и дело вступать с нами в беседы, причем держался самым галантным и утонченно вежливым, на его взгляд, образом. Но раз вечером, когда, только что рассказав громогласно один из своих бесчисленных сальных анекдотов, он подошел с самым развязным видом к нашим нарам и задал Штейнгарту какой-то вопрос, последний поднялся, весь дрожа от негодования, и крикнул:
— Прочь от меня… Не смейте никогда больше со мной разговаривать!
Не ожидавший подобного афронта, Грибский опешил. Страшно побледнев и весь съежившись, он принял вдруг самый плачевный вид.
— Дмитрий Петрович, да что же я такое сделал? — забормотал он.
Штейнгарт повернулся к нему спиной.
— Я тебе, Грибский, вот что скажу, — заговорил тогда Чирок, — Митрий Петрович и Иван Миколаич не любят этих самых слов. Не выносит, значит, душа, да и все тут! А ты такое, брат, мелешь, что уж чего мой пермяцкий язык срамословить любит, а и мне, скажу тебе, подчас муторно становится…
— Дурак ты эдакий, — вступился и Сохатый не то серьезно, не то, по обыкновению, иронизируя, — ты должен понимать, в какую тюрьму попал и с какими людьми обращение теперь имеешь. Ты думал, здесь каторга, а на деле тут — ниверситет, и ты студентом должон понимать себя, вот что!
— У нас банки отсекали до вас кажному, кто только мать выругает! — с гордостью добавил Луньков.
— А ведь что ж, ребята, самое это разлюбезное дело! — сорвался вдруг с нар плечистый мужчина с мрачным выражением красного, как морковь, угреватого лица и маленькими рыжими усиками, Карасев по фамилии. — Я сам смерть не люблю этой нашей дурной привычки… Давайте, братцы, и мы в это согласие вступим. Банки тому сукиному сыну, кто хоть раз помянет мать аль отца нехорошим словом!
И за этим энергичным выкриком он сделал в духе энергичное движение кулаком.
— Что, брат Грибский, заварил кашу? — захохотал другой арестант, спокойно лежавший на нарах.
Он давно уже производил на меня крайне неприятное впечатление своими наглыми светло-серыми глазами, постоянно, точно у волка, оскаленными, белыми как слоновая кость зубами и всем своим лицом, тоже ослепительно белым и прекрасно упитанным. Рядом с этим антипатичным развязным блондином, фамилия которого была Тропин, лежал четвертый из новичков, худощавый брюнет с длинными усами и прямым острым носом; темные глаза его в глубоких впадинах смотрели пронзительным и почти диким взглядом. Звали его — Стрельбицкий; он не проронил пока ни одного слова.
Грибский попрежнему стоял возле наших нар, повесив голову и имея самый виноватый вид.
— Я что же… Я, как все, господа, — продолжал он оправдываться, — против общества я никогда не пойду. Я даже очень буду рад… Конечно, глупая привычка наша всему причиной… К тому же иные настоящие господа очень даже сами одобряют крепкое слово… Приходилось мне и порядочное общество тоже видать… Но ежели ваш характер иного рода, так простите великодушно, я не знал ведь…
Несчастный «любитель» имел очень комичный, жалко-растерянный вид.
— Больше, значит, не будете? — сурово спросил его Штейнгарт.
— Прямо язык себе позволю отрезать! — обрадовался Грибский. — Прямо вот принесу ножик, подам в руки и скажу: «Режьте, Дмитрий Петрович, заслужил!»
— Ну, надо, значит, в другую камеру проситься, с барами нам не житье! — гневно произнес вдруг худощавый мрачный брюнет, поднявшись с нар. И, громко брякая кандалами и стуча сапогами, он стал расхаживать взад и вперед по камере, крутя одной рукой усы и исподлобья бросая в наш угол злые, пронизывающие взгляды.
— Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Молодчинища Стрельбицкий, славно, брат, отбрил! — залился веселым смехом Тропин, перевалившись с одного бока на другой и скаля острые белые зубы.
— Дичь вы необразованная, еловая дичь! — ядовито бросил в сторону их обоих Карасев — тот мужчина с угреватым красным лицом, который вызвался перед тем вступить в «согласие».
Я давно уже замечал, что в этом человеке, работал ли он, отдыхал ли, разговаривал ли с кем, вечно, казалось, бурлило и клокотало тайное недовольство, злость на кого-то или обида на что-то. Вечно он на что-нибудь ворчал, проклинал то начальство, то арестантов, то самого себя. Когда же не было повода к чему-нибудь придраться, он упорно молчал по целым часам, угрюмо насупившись, с налитыми кровью глазами без ресниц, с подозрительно насторожившимся видом, точно зорко выжидая и выслеживая, где бы и в чем бы уловить хоть тень обиды себе и оскорбления. Очевидно, это был человек из породы тех самогрызунов, недалеких, беспричинно злобных и сварливых, которые умеют делать несчастными и себя самих и всех окружающих их людей. Когда на Карасева находили, случалось, порывы добросердечия, то в них было что-то неестественное, слащаво-сентиментальное, и, конечно, порывы эти были всегда крайне мимолетны и оканчивались сугубой бранью с сожителями… Так, в настоящую минуту он встал ни с того ни с сего на защиту благопристойности и с гневом обрушился на двух товарищей, заявивших себя ее противниками.