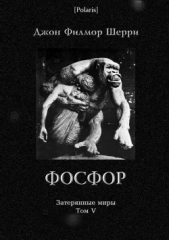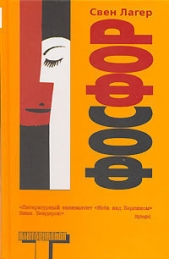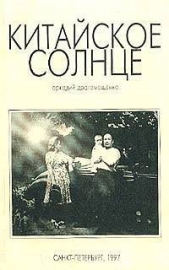Фосфор

Фосфор читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как память черной вишни во рту и горькой рассеянной пыли на дороге из Немирова в Умань, где в лещине, в сизых мхах и проволочно-дикой землянике догорают обломки лазурного мрамора и мумии снов Потоцкого рассыпаются сладчайшим прахом в кипении сверкающих мух. Мы были, становясь неустанно, в нескончаемом изумлении собственной жизнью. Из чего состоим? На что рассыпаемся, какой состав рассевает сырой теплый ветер затем, которому с такой легкостью и доверием подставляем лицо, и чье пристанище темное дерево, гнездо, звезда в колодце, удвоение в удвоении, обволакивающие единицу - липа, бук, претворяющий тяжесть в смоле, смежившей вежды, ток чей тревожит траву, трение пестует жар звучания строгой последовательности восхождения и нисхождения, когда одни раковины, хруст поющ и свеж, как стебля срез, - бессонный ясень, вяз, чья хрупкость может соперничать лишь с тополиной - не превосходимое ничем, ни облаком, ни собственными же корнями, ни шумом листвы, ни дымчатым голубем, ткущим стеклярусные кружева лесных отголосков, отсветов, эхо, ни молчанием, которым грезит речь, скатываясь, под стать шуршащей воде с песка или каплям с кожи, после того, как ступаешь на топкий берег, и эхо над головой разрывает стон голубя, сокрытый и пепельный, а сзади цепенеет рябь от ужа, дрожащая скудость последних следов угасает. Поэтому говорят, что в Фессалии, в Македонии, в Виннице при восходе Арктура деревья распускаются особенно пышно. В Египте по этой причине деревья, можно сказать, все время дают побеги, и если перерыв и наступает, то длится не очень долго. Мы, разумеется, не притязали на полное отречение от знания предшествующих нам, но кое-что становилось неуместным: например, даже не одежда, но мебель более всего резала глаз и еще пожалуй словечки, а более всего удручала их страшная неуклюжесть в следовании призракам собственных мыслей. При желании можно было бы набросать что-то вроде карты, графика, где были бы нанесены маркеры приоритетных позиций. Стрелки, указатели устремлены были бы в одном направлении, как иглы к магниту в школьном физическом опыте. Также янтарь, чтобы позже о нем. Все остальные предложения просим представить в письменной форме. В форме письма, пребывающего в нескончаемом поединке с собственной тенью. Эта дрожащая карта их мира, их сновидений отсюда кажется мне немыслимо тесной, - сколько было "загублено", оставлено в силу привычек. Главное состояло же в том, что даже ту странную, хрупкую, непреодолимую полосу, где угасало понимание одного и того же, заносила бесцветная пыль, та, которая по воскресениям в детстве переливалась стрекозьим августейшим крылом, оседая, однако, черным налетом повсюду. Вокзалы. Хрустящие вафли микадо, диваны светлого дуба огромны, вензеля МПС, пустота, атриум, стеклянные крыши, шары аквариумов, лампы молчанья в руках херувимов - казалось, что там всегда царит воскресенье, тогда как у стен тонкой судорогой ледяного затменья сжимается зеленью море. Водоросли. Пузырьки. Укрупнение зерен, из которых составлено зренье, стручок - срезы которого (что теперь не вызывает сомнений) были само совершенство: плоскости мира входили в соприкосновение с идеальной поверхностью глаз: процессы диффузии. О которых известно было Плотину: сновидения синтаксиса. Платонический растр. И никто не мог даже в шутку представить, - нет, понятны были и войны, и казни, предательство, словом, старый тезаурус не вызывал подозрений - что наступает эра великой бессонницы, что сны отказались от нас, так случалось с водой, когда она порой покидала колодцы, а там, бесспорно, если сверху глядеть, еще что-то мерцает, но вода вдруг оставила нас, вода покончила самоубийством или же кто-то ограбил ее, разрезал ее пополам, на две половины; вторая жаждой была, а первая ее отражением, но, вероятно, бессонница была только кодом ячеек сознания, которые тоже слагались в надпись прорех и излучин, в фигуру утомительной оды, - поскольку со всех сторон обступающего горизонта до неба поднимались свидетельства (и не надо быть весьма изощренным в чтении знаков подобных... по меньшей мере, мы тому научились... впрочем, когда? библиотеки? письма? короткие смешные рассказы? видео-репортажи? etc., a Моцарт! Торелли! "Введение в Т" Барретта Уоттена! Ипохондрия Жданова! Или чемпионат среди школ по легкой атлетике, когда гарь блаженно хрустит под шипами в секторе, где установлена планка на 2.04, сеется дождь, и трусы прилипают к ногам, волосы - нет; тогда, если помнишь, коротко стриглись, и в волосах ползли капля за каплей, как речь с неустановленного, блуждающего предмета - вещь? признак? - когда опять возвращаешься к берегу, а сзади затон, зигзагообразная черная молния, лилии, восходящие вниз, как будто к корням...) - того, что открывается эра отнюдь не бессонницы (она - это следствие), - Памяти, бесконечной, как очередь за водкой, сигаретами, рисом или же пламя, в которое смотрит ребенок, постигая то, что впоследствии станет вполне недоступно (в какой-то мере ненужно), то, как оно пожирает себя, не существуя, струясь. Пролив Флогестона. Блейк. Purgatorium. Центр. Однако, было известно, что в архитектонике этой машины отсутствуют должные уравновешивать "крылья". Симметрия, сведенная в точку. Яблоки, все же, оставались на вкус теми, что прежде. Солоноватая кровь. Точно так же несложно оптической пленкой, слегка замутненной, комкался шепот. Все те же: "еще!..", "делай со мной все, что захочешь!..", "да, я буду... нет, только... да!" - касались воображения и скользили по склону часов, словно отсвет уже отраженного окнами заходящего солнца. Изучались пейзажи, подобно латыни. Падежи минералов, спряжения рек, окончания веток. Пристальная археология слой за слоем проникала в погоду, небо не утрачивало многозначительности. Хотя, как уже говорилось, стало больше крыс, сумевших завоевать автономию, астрологов, переметнувшихся к крысам, откуда, впрочем, в лагерь людей вернулись целители, игроки в кости, - поэты пока выжидали. Намного больше травы. Дети прекрасны. Головы их шелковисты. Я не приду к тебе, поскольку теперь адреса утратили смысл, мы пребываем повсюду и помним все то, что было и будет. Медлительный комментарий: либретто балета: тело ползет по направлению к югу. Герои просты, словно карты или же графики. Тело: архив, исключивший слоенье огня, эллипсис, где расправляется сила оператора смерти - союз. Стрелки указывали изменение поворотов дороги. Шумел дождь, точно шелк, брошенный вверх и летящий навстречу. Сад расцветал тетивою из пчел. Теперь я со странным вниманием размышляю о беленых стенах, о мальвах, ястребах, процарапанных на бересте и алмазе, теперь с уверенностью можно сказать - предвиденье стало достоянием всех, невзирая на то, что формула остается в секрете. Но тебя, что коснется тебя?
Пейзажи "чередуются" либо связаны между собой в паратаксисе, либо как элементы, из которых состоит их ожиданье, прибытие. Нить связующая ожерелье.
Безостановочная смена не заполняемых ничем видимостей, но разве мало того, что ты видишь? Кадры безостановочной ленты, активизирующей частицы сознания. Нередко я возвращаюсь к образу здания, расположенного на пологом склоне холма, не деревенского, не коттеджа, но городского, четырех- или пятиэтажного дома. Который совершенно чужд пространству, его окружающему, точно так же, как и моему повседневному воображению, уставшему от выгорающих следов тех же лиц, тех же ситуаций, неряшливо и торопливо и даже как-то крикливо раскладывающих "передо мной" свой покорный скарб. Строение точки, утром утроение прикосновения. Чтенье того, что еще не стало письмом - чтение предшествует написанию: "именно такие мгновения, когда события, не имевшие значения и существовавшие независимо от намерения, бывшие перфорацией памяти, обретали невероятные причины" - причин нет.
Следовательно, дом чужд дрожащему от летней жары воздуху, уходящим полям, повисшей над горизонтом сверкающей точке, омываемой моим зрением и танцующим эфиром, он чужд твоему и моему вопросу, детству, любви, как и тишине, удивляющей по обыкновению своей неестественностью. Но преткновения. Пейзаж и человек взаимоисключающи. Пейзаж это линза, оптически- словесная система, превращающая безотчетное, бесцельное намеренье выйти из границ какой бы то ни было меры, масштаба, соотношения в нечто подобное неосязаемому лезвию, проникающему ткань за тканью, отражение за отражением, описание за описанием и плавящему во все возрастающей скорости различия между пейзажем, намереньем, проницанием - предметом, желанием, действием, становящемуся и тем, и другим, и третьим, и сто пятьдесят тысяч вторым. Вся русская словесность есть явное или неявное выпрашивание дачи у Бога или у Начальника. Отсюда поучительность, наставительность и откровенность. Бессмертие как дача. Дач не бывает много, что усвоено с детства. Русская лирика - письмо Даниила Заточника, не получившего дачи. Но дач дается определенное количество. Дачу нужно заслужить. Поэтому дачу получают лучшие. Лучшие существуют лишь там, где есть худшие. Если худших нет, они создаются усилиями лучших или других, которые в итоге становятся лучшими и получают жетон на дачу, благосклонность, бессмертие. Страдание в этой схеме - забег утешения. Там также разыгрываются призы. Их, опять-таки, закономерно меньше (верней, они незначительней). Aufhebung! Петя Трофимов бросает ключи в колодец. Вероятность физического выживания. Порой служение длится жизнь. Меня тошнит сегодня даже от Розанова. Розанов, Пушкин, Достоевский, Бердяев и пр. не имеют никакого отношения к дому на отлогом склоне холма, за которым уходят, заваливаясь, поля, не имея никакого отношения к жаре и к коршуну, отточенно мерцающему над горизонтом. К этому не имеют отношения ни Генри Торо, ни Томас Манн. К этому имею отношение только я, читавший Гоголя, Пушкина, Достоевского, Манна, etc., видевший дотлевавший вечер в комарином роеньи над гниющей венецианской лагуной, Китай, лежавший на западе, знающий кипящий туман и то, как он растворяет глаза, мозг, соль, кости, жилы в скандинавских фьордах в шесть утра, когда гремит перекатываясь по палубе жестянка от пива, сдергивая полог тела с того, что остается телом, приоткрывая на миг то, к чему, наученный многому, я возвращаюсь, минуя выученное, под стать тому, как иногда возвращаюсь к этому зданию (так мысленно возвращается-восстанавливается читающим недостающая буква в месте, где отсутствие ее было упущено корректором), рядом с которым иногда можно обнаружить телефонную будку - вряд ли доводилось кому из нее звонить. Не помню. Если бы не было зеркал, они никогда бы не догадались, что я безобразна. Впрочем, полной уверенности в том у меня нет. Если бы не было зеркал, им ни за что было бы не догадаться, что я существую. Проблема не в этом. Тень дома широко ложится на землю, поросшую, кажется подорожником, одуванчиками, осотом. Кое-где, в неглубоких лощинах стоят в поблескивающей паутине репейники и чертополох, бузина налилась своим ядовитым молоком. Тень дома широко ложится на землю, достигая зарослей подсохшей акации. Солнце садится, как всегда, когда оно отражается в великом множестве окон и затем блекнет на коже плеча - в этот момент ты только слово, как и остальные слова, которые я отцеживаю так бережно, так осторожно, как если бы боялся упустить хотя бы каплю из того, что, как мнится мне, они содержат в себе, - но не моей ли слюной полны? Парадная дверь дома распахнута. Можешь прислушаться, обе (не крашенные вечность) половины ее, должно быть, поскрипывают, хотя, вероятно, это разыгралось воображение или ветер. А дальше сетчатая мгла коридора: в ней брезжит дверь лифта, снова круглая слезой резь - открытые настежь двери черного хода, хода во двор, которого нет, и вместо которого подступает к искрошенным цементным ступеням поле, как есть, как без следа и уходит, туда, где никогда никаких не должно быть следов. У меня ноет сердце, дело к дождю. Мы, a тут не о чем, вроде, толковать, приезжаем издалека. Панорама кисти Феллини.