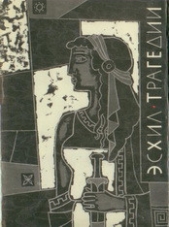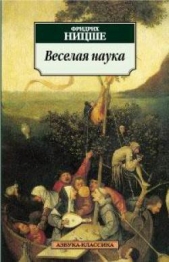Аполлон и Дионис (О Ницше)

Аполлон и Дионис (О Ницше) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Самые основные дионисические настроения теперь совсем забываются Ницше. Его сверхчеловек, любимое детище дионисического Заратустры, вызывает вполне справедливые возражения со стороны людей, действительно дионисических. "Религия Диониса - религия мистическая, - говорит Вячеслав Иванов, - и душа мистики есть обожествление человека, через благодатное ли приближение божества к человеческой душе, доходящее до полного их слияния, или через внутреннее прозрение на истинную и непреходящую сущность "я". Дионисическое исступление уже есть человекообожествление, и одержимый богом - уже сверхчеловек... Дионисическое состояние знает единый свой, безбрежный миг, в себе несущий свое вечное чудо: каждое мгновение для Ницше - восходящая и посредствующая ступень, шаг приближения к великой грядущей године. Дионисическое состояние есть выхождение из времени и погружение в безвременное, - дух Ницше весь обращен к будущему; он весь в темнице времен".
Это отмечено точно и верно. Свершилось "чудо", спустился на человека Дионис, - и одним мигом достигнуто все: человек стал сверхчеловеком, больше - стал богом. Как Кириллов Достоевского, он скажет: "В эти пять секунд я проживаю жизнь, и за них отдам всю мою жизнь, потому что стоит. Я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие, коли цель достигнута?"
Но только с негодующим смехом пожмет на это плечами Заратустра. Он весь пылает одною настойчивою, страстною мыслью: "Человек есть нечто, что должно преодолеть". Чтобы "цель была достигнута", для него нужно огромное и долгое "развитие", нужны многие поколения детей. "Землю ваших детей должны вы любить, еще не открытую!" - говорит он. А на слова Кириллова и Вячеслава Иванова о достигнутой уже цели у него есть очень ядовитый ответ: "Человек есть нечто, что должно преодолеть. Но только клоун думает: через человека можно также и перепрыгнуть".
И вот Ницше приходит, наконец, к Гёте, самому недионисическому из европейских писателей, и дает ему такую характеристику:
"Гёте - явление не немецкое, а европейское. Он окружил себя исключительно замкнутыми горизонтами; он не отделялся от жизни, он входил в нее; он не был робок и брал столько, сколько возможно, на себя, сверх себя, в себя. Чего он хотел, так это цельности: он боролся с разрозненностью разума, чувственности, чувства, воли, он дисциплинировал себя в нечто цельное, он создал себя. Гёте был среди нереально настроенного века убежденным реалистом: он говорил "Да" всему, что было ему родственно в нем. Гёте создал сильного, высокообразованного, во всех отношениях физически ловкого, держащего самого себя на узде, самого себя уважающего человека, который может отважиться разрешить себе всю полноту и все богатства естественности, который достаточно силен для этой свободы, человека, для которого нет более ничего запрещенного, разве что слабость, все равно, называется ли она пороком или добродетелью... Такой ставший свободным дух стоит с радостным и доверчивым фатализмом среди вселенной, веруя, что лишь единичное является негодным, что в целом все искупается и утверждается, - он не отрицает более... Но такая вера - высшая из всех возможных вер: я окрестил ее именем Диониса".
Что же это, наконец, такое?.. Вместе с Ницше мы постарались совсем забыть об Аполлоне. Но теперь уж решительно невозможно не вспомнить о нем, дело слишком ясно. "Я окрестил эту веру именем Диониса"... Очевидно, Ницше окончательно запутался в своих святцах: эту веру можно окрестить, и нельзя иначе окрестить, как только одним именем,- именем Аполлона.
Новый бог вплотную подошел к душе Ницше. И, как Патрокл на равнинах Трои,
не узнал он идущею бога:
Мраком великим одеянный, шествовал ввстречу бессмертный
Но все ярче в этом мраке начинало светиться лучезарное лицо бога жизни и счастья. Каждую минуту имя его, казалось бы, могло быть названо. Ницше уже говорит о себе: "Мы, гиперборейцы"... Профессор классической филологии, он, конечно, хорошо знал, что над счастливыми гиперборейцами безраздельно царит Аполлон, что Дионису делать у них нечего.
Опять, как в юношескую пору, перед Ницше встали оба великих бога Дионис и забытый было Аполлон. И теперь их уже нельзя было примирить и соединить в "братском союзе", как сделал Ницше в "Рождении трагедии". Там он этого достиг тем, что превратил Аполлона в какую-то ширму, в цветное стеклышко, умеряющее нестерпимый для смертного глаза блеск дионисовой стихии.
Теперь оба бога стояли перед Ницше в своей изначальной, непримиримой противоположности. Оба говорили ему: "Либо я, либо он!" Оба требовали ответа точного и решительного.
Но нелегко было для Ницше дать ответ. И не случайно имя Аполлона так-таки и не было им названо.
IX ДЕКАДЕНТ ПЕРЕД ЛИЦОМ АПОЛЛОНА
Лучезарный бог счастья и силы вплотную остановился перед Ницше. И яркий солнечный отблеск лег на бледное, трагическое лицо "последнего ученика философа Диониса". Finitur tragoedia! Конец трагедии! Аполлон несет человеку правду, которая под самый корень подсекает всякую трагедию.
Лев Толстой рассказывает про Пьера Безухова:
"Пьер чувствовал, что та роковая сила, которая смяла его во время казни, теперь опять овладела его существованием. Ему было страшно; но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от нее сила жизни".
"В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом... Но теперь, в эти последние три недели похода, он узнал еще новую, утешительную истину, - он узнал, что на свете нет ничего страшного".
"Теперь только Пьер понял всю силу жизненности человека и спасительную силу перемещения внимания, вложенную в человека, подобно тому спасательному клапану в паровиках, который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму".
Огромна и чудесна эта основная тайна Аполлона, которую живо все живое. Несчетные ужасы со всех сторон окружают человека. Но жизненно-сильный человек слеп к ужасам, из которых воля его не может найти выхода.
Ярко вскрывает суть этой аполлоновской тайны тот же Толстой в своей "Исповеди". Ослабевший жизнью, смутившийся духом, он говорит о ней с отрицанием, но именно ею всегда и была жива душа самого Толстого.
"Не нынче завтра придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся, - раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить, вот что удивительно! Можно жить только, покуда пьян жизнью, а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это - только обман, и глупый обман! Вот именно, что ничего даже нет смешного и остроумного, а просто - жестоко и глупо".
Можно жить только, покуда пьян жизнью. Вот в чем суть первой и главнейшей тайны Аполлона. Чудотворная сила жизни опьяняет, как благороднейшее вино. Человека ждет неизбежная смерть, несчастные случайности грозят ему отовсюду, радости непрочны, удачи скоропреходящи, самые возвышенные стремления мелки и ничтожны перед грозным лицом вечности, - а человек ничего этого как будто не видит, не знает и кипуче, ярко, радостно осуществляет жизнь. Когда же человек "протрезвляется", когда исчезает в нем этот ясный, беспохмельный хмель, вызываемый непосредственною силою жизни, то для человека ничего уже не остается в жизни, ему нечего в ней делать - разве только ему удастся обрести для себя какой-нибудь другой хмель. И все существо Диониса, вся огромная заслуга его заключается именно в том, что он несет упадочному человеку свой временный хмель, как замену выдохшегося из души подлинного, длительного хмеля жизни.