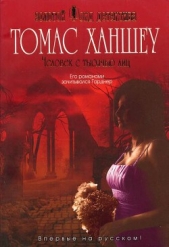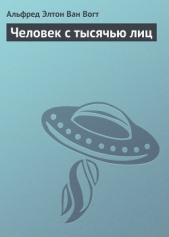Сцена

Сцена читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сцена задушения одна из труднейших и рискованных сцен. Малейшего неловкого движения со стороны Отелло или Дездемоны достаточно, чтобы вызвать улыбку у зрителя, — и впечатление страшной сцены пропало. Изобразить эту сцену хорошо, очень реально, — это вызывает отвращение.
Сальвини душит Дездемону за закрытым пологом. Мы не видим этой борьбы, забавной или отвратительной. Но тишина, которая наступает там, за пологом, это страшнее всякой сцены убийства. Сальвини предоставляет фантазии зрителей дорисовать эту сцену и даёт ей только паузу, — поистине самую трагическую паузу, более трагическую, чем все слова.
Какое странное впечатление производят слова Отелло к Эмилии:
— Я не убил её.
Для исполнителя они представляют огромную трудность. Отелло в эту минуту проигрывает все симпатии зрителей. Он как будто хочет улизнуть от возмездия. Убийца хочет спрятаться за великодушие жертвы. Желая избегнуть наказания, он ссылается на свидетельство несчастной, умирающей от его руки. Он останется, он сможет жить после этого?
Отелло-Сальвини злорадно смеётся, когда Дездемона говорит, что она сама наложила на себя руки.
— Ага! Вот что это за лживая тварь! Она лжёт даже в предсмертный час, перед лицом Господа!
Он иронически, с тем же злорадным смехом спрашивает Эмилию:
— Ты ведь слышала? Она сама сказала! Я не убивал её? Я не убийца?
И, выпрямляясь, гордо и благородно произносит:
— Её убил я!
Она солгала, идя на Божий суд!
Мы подходим к последним моментам.
Не казалось ли странным, что Отелло — в такие-то минуты! — вдруг вздумал вспоминать о своих государственных заслугах. Вот уж казалось бы совсем не время говорить о своей служебной деятельности.
Но… все повернулись, чтобы удалиться. Отелло останавливает их.
— «Постойте! Республике я оказал услуг немало!» — значительно говорит он.
В данную минуту он не более, как преступник, — но за ним есть заслуги, и во имя этих заслуг он требует, чтобы его выслушали.
Вот значение этих слов, которые Сальвини произносит таким многозначительным тоном, заставляя всех остановиться и его выслушать.
Он всё сказал, что хотел, со слезами рассказал всю свою скорбную повесть, плача отвернулся, как будто говоря этим: «Теперь идите», — и в эту минуту его взгляд упал на кинжал, лежащий около него на столе.
Этот кинжал выхватил Отелло, в припадке ярости замахнувшись на Эмилию, когда та, увидя труп, подбежала к Отелло с проклятиями и ругательствами.
Кинжал этот Отелло положил на стол и теперь его увидел.
Радость в его чертах. Вот избавление!
Он схватывает кинжал. Он вне себя.
— Прибавьте ещё…
Все останавливаются.
— В Алеппо я встретил чалмоносца-турка, который бил венецианца и ругался над сенатом. Я взял обрезанца-собаку и заколол его… вот так…
Сальвини-Отелло выхватывает спрятанный за спиной кинжал и красноречивым жестом показывает, как он зарезал презренного турка. Таким жестом до позвонков перерезают горло.
Прежде чем кто-нибудь успевает опомниться, Отелло режет себе горло кривым кинжалом и падает.
Дрожание ступни правой ноги. Небольшая судорога. И занавес падает над сценой, полной ужаса.
Мне лично больше нравится, когда, как у Шекспира, умирающий Отелло тянется к Дездемоне, чтобы умереть около неё.
В симфонии ужасов это заключительная нота, которая звучит скорбно и трогательно. В ней столько полной грусти поэзии. Она всё покрывает, словно флёром печали. Без неё всё слишком полно ужаса в этой ужасной и, простите меня, только в исполнении Сальвини человечной трагедии.
Вий. Петербургское предание (Рассказано пасечником Рудым Панько)
Чудные дела творятся на свете, господа. Другой раз погибнет человек, потом раздумаешься:
— Из-за чего погиб человек?
Только руками разведёшь, да и плюнешь. А другой человек, который рецензент, при этом ещё как-нибудь нехорошо и выругается.
Да вот, что далеко ходить! Вы философа Хому Брута знали? Ну, конечно же, знали! Того, что Николай Васильевич Гоголь ещё описал. Добрый был философ. Кварту горилки, бывало, ко рту поднесёт, — только её и видели. Хороший был философ. Что к бубличнице иногда, грешным делом, хаживал, — так быль молодцу не укор. Ведь и то надо подумать: зачем-нибудь она, бубличница-то, на свет и создана! Одним словом, важный был философ. А пропал не за понюх табаку!
А всё потому, что в столичный город Санкт-Петербург поехал. Ведь взбредёт же человеку этакое в голову! Впрочем, и то сказать — философ. Задумал: «поеду да поеду», сел на машину и действительно поехал. Ну, да не без добрых людей и на железной дороге: не одни жулики по вагонам ходят. Поместился против Хомы Брута добрый человек. Без ноги, вместо одной ноги деревяшка, один глаз тоже вышибен, и вместо руки пустой рукав шинели болтается. Словом, видимо, человек опытный и жизнь знающий. Отрекомендовался:
— Капитан Копейкин. А вы кто будете?
— Я, — философ говорит, — философ Хома Брут, еду в столичный город Санкт-Петербург.
Тут ему капитан Копейкин очень обрадовался.
— Ах, — говорит, — очень приятно. Много про вас читал. Но только напрасно вы, молодой человек, в город Санкт-Петербург едете!
— А любопытно мне было бы знать, — Хома Брут спрашивает, — почему бы это такое?
— А потому, — говорит капитан Копейкин, — что не попасть бы вам там в переделку!
Философ только усмехнулся себе в ус:
— Ну, этим-то, — говорит, — меня не испугаешь!
Вы ведь философа хорошо помните? Человек был молодой, но подковы гнул, не тем будь помянут.
— Сам, — говорит, — кого хочешь переделаю!
А капитан Копейкин на своём настаивает:
— Ну, вы этак, молодой человек, не говорите. И не таких, как вы, переделывали. Вы студента Раскольникова изволили знавать? На что страшный был человек: двух старух топором убил, — и не пикнули! А так переделали, что родная мать не узнала! Базаров тоже — медик был, мужчина огромадный, и тот в переделку попал!
— Ну, — Хома Брут говорит, — так то студенты. Им уж видно на роду написано в переделку попадать. А я — философ.
— Да ведь, — капитан Копейкин-то говорит, — драматургу всё равно, кого переделывать. Они не смотрят, что переделывают.
— Эге! — заметил философ. — Это, как богослов Холява, — что увидит, то и стащит.
— Да! Но Холява просто таскал во всей, так сказать, неприкосновенности. А драматург не только чужое возьмёт, но ещё и изуродует!
Тут Хома Брут струхнул было немного:
— А что это, — спрашивает, — за цаца такая — драматург? Много я нечисти видал, а о такой и слышать не довелось. Страшнее они кикиморы или нет?
— Там уж увидите, — капитан Копейкин говорит, — страшнее или не страшнее. А только мой совет бы вам, молодой человек, пока время есть, на первой станции вылезть да назад в Киев поехать.
Ему бы послушаться, ну, да ведь человек молодой.
— Вот ещё, — говорит, — что же я после этого за казак буду, если я каких-то драматургов испугаюсь?
Известно, человек бесстрашный!
— Ну, — капитан Копейкин говорит, — это уж дело ваше. Хотите ехать, — поезжайте. Только позвольте мне вас, молодой человек, отечески предупредить: как человек молодой, вы, конечно, по театрам пойдёте, посмотреть захотите, — так будьте осторожнее: потому что тут он самый этот драматург-то и есть. При каждом театре драматург сидит. А в кармане у него в боковом ножницы, а в заднем кармане у него клейстер.
— Ладно! — Хома Брут говорит.
Вот этаким манером, господа вы мои милые, и приехал он в Петербург. Ну, город, сами понимаете. Санкт-Петербург не даром называется! Что ни улица, то министерство, так что диву даже дашься:
— На что их столько понадобилось?
Ну, да это не нашего ума дело. А вот что нашего ума дела, — на каждой улице ресторация. И в каждой ресторации люди сидят и, как бы им своё отечество спасти, разговаривают и при этом разные напитки не хуже богословов пьют. Одно слово, Минины — только выпивши. Хорошо-с! Зашёл философ Хома Брут в одну ресторацию, сколько философу полагается, выпил, разговоров послушал, зашёл в другую ресторацию, послушал о спасении отечества, в пропорцию выпил. В третью, в четвёртую. Набрался духу и решил в театр пойти: