Без заката
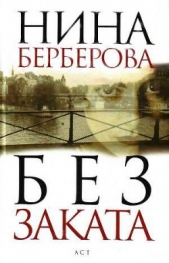
Без заката читать книгу онлайн
Литературный дебют Нины Берберовой в качестве прозаика состоялся за границей, куда она уехала в 1922 году вместе с мужем поэтом Владиславом Ходасевичем.
Героиня романа "Без заката" Вера, чья прежняя петербургская жизнь меняется бесповоротно, как и сама Берберова, уезжает с мужем во Францию. Обратной дороги Вере нет, и она устраивается здесь. Впервые роман был опубликован под названием "Книга о счастье" : Вера ищет счастья, уезжая с первым мужем в Париж; ищет после похорон мужа; ищет — устраиваясь в Ницце. И никак не может понять, когда говорят, счастье, как воздух, его не чувствуешь …
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Нет, Лизи вас не заметила.
Дашковский замолчал и продолжал курить; курил он почти без перерыва, от одной папиросы к другой, и в комнате стоял в несколько плоскостей неподвижный дым.
«Еще, еще, говорите дальше», — хотелось сказать Вере, но она боялась выдать свое любопытство — не в отношении минувших его чувств к ее матери, а в отношении того огромного — по сравнению с ее — опыта любви и страдания, который был у него, и которого у нее не было. В том, что он говорил, безотносительно к тому, касалось ли это ее матери или нет, она ловила ей нужное, отвечавшее каким-то ее сокровенным и ей самой еще неясным мыслям, все время боясь, что он в ее напряженности, под которой она скрывала свою жадность, увидит что-то детское; но одновременно ей не хотелось и того, чтобы он принял ее за вполне взрослую, бывалую женщину, какой она не была.
— Я задам вам один вопрос, — сказала она. — Вашей женой, мной немножко, наверное другими — все эти годы — вы заменили ее, вы ее нашли (и потеряли тем самым). Так что же осталось?
— Страдание, — сказал он просто, — сознание, что человек не ракушка, не птичка, и что никого никем заменить нельзя.
— Зачем же вы пришли смотреть на меня?
— Так. Как мухи летают. Вы не можете себе представить, какое это для меня наслаждение. Не смейте трогать волос! Посидите еще так.
Она опустила руки.
— Ну, а если бы вы увидели ее сейчас? Хотите, я покажу вам ее фотографию? Она почти седая.
— Покажите. Седая?.. Бедная вы девочка! — и Вере показалось, что он сказал «бедная дурочка». — Вы думаете, молодость что-нибудь значит? Вы, может быть, гордитесь, что молоды? Конечно, это было бы естественно, я не обольщаюсь насчет вашего ума. Но разве молодость кого-нибудь когда-нибудь покоряла? От чего-нибудь удерживала? Есть такие вещи, за которые всю вашу молодость отдать не жалко. Вы что, рассердились?
Она вскочила, ломая в пальцах спичечный коробок.
— Какие вещи? — спросила она жадно из угла комнаты.
— Простите, не буду больше. Я только хотел сказать, что все искры, все так называемые безумные минуты в зрелости уже не нужны; хочется длить… Вы слышали когда-нибудь такое слово, голубушка? Длить. Запомните его. Хочется только одного: прочности, уверенности, что счастье, которое сегодня со мной, будет со мною и завтра, и послезавтра. Хочется, чтобы та, которая со мной рядом (или во вне) — была бы навеки моя, безраздельно моя, наяву и во сне моя, и пусть так, как хочу этого я, хочет этого и она. Разве молодость этого ищет?
Вера стояла, скрестив руки на груди, и не смотрела на Дашковского. Она боялась прервать его.
— А себе вы оставьте афоризмы касательно измен, ревности, страсти и прочего, — сказал он, уминая в пепельнице очередной окурок. — Кидайтесь во что хотите, куда хотите, к кому хотите.
Он поднял глаза: она смотрела на него.
— Или сидите смирно, ждите своей участи.
— Нет, пожалуйста, перестаньте так говорить со мной. — Она перевела дыхание. — Скажите, если можете, взаправду, что мне делать?
Он не спеша встал, сунул руки в карманы, поднял плечи и отошел еще дальше, в дальний угол комнаты, и оттуда сказал, с чем-то стариковским, грустным в лице:
— Стареть.
Она готова была сорвать у него с губ это слово. По диагонали через всю комнату, она смотрела ему в глаза. «Еще, еще», — хотелось ей просить его, чтобы он объяснил ей, научил ее.
— Вы только не уходите, — пробормотала она, — подождите. Еще рано…
Они одновременно посмотрели в окошко. В дыму они двигались по комнате, как под водой. Дым клубами вился над ними от каждого их шага. За окном воздух начал тускнеть. Облако плыло на них, сперва розовое, потом багровое, плыло и не могло проплыть, пока не погасло. Потом по холмам, видным далеко-далеко, побежали огни, глубже и гуще стала небо. Они ходили по комнате, бесцельно и долго, не мешая друг другу и не задевая мебели, которой было немного. Дашковский говорил, и Вере казалось, что она наклонилась над ручьем, бегущим мимо ее лица, и губами зачерпывает его жгучую прохладу. Она слушала. О чем говорил он? О любви, об утраченном счастье, о незаменимости, о воспоминаниях, о власти одного человека над другим, об ушедших годах. Он говорил теперь без прежнего враждебного к ней снисхождения. Он сидел опять в кресле, с чашкой чая в руке, перевалив через долгие часы беспамятного разговора, возвращаясь минутами опять к тому, за чем, собственно, пришел.
— …вот здесь что-то подле рта и вокруг лба; но взгляд совсем чужой, теперь я вижу, взгляд у вас не тот, и руки совсем незнакомые. — И он, поймав эти незнакомые руки, рассматривал их и отводил от себя.
Когда Дашковский погасил последнюю папиросу и встал, в комнате ничего не было видно от дыма и мрака. Дашковский вынул из жилетного кармана старые часы: семь часов.
— Следующий раз, когда я приду, — сказал он, выходя в прихожую, где Вера зажгла свет, — надо будет поставить будильник, чтобы это продолжалось не так долго. — Она с усилием улыбнулась. — В следующий раз не я, а вы расскажете мне о себе всякие интересные вещи.
Она кивнула в знак согласия. Никаких интересных вещей она не могла ему рассказать — ее жизнь показалась ей сейчас цепью случайных и совсем не ярких ошибок. Может быть, что-то и несла она в себе, что было похоже на «вне» Дашковского, но такое маленькое, безымянное, какое-то зернышко, похожее на веснушку на носу у Сама, на слезу Александра Альбертовича, — его можно только прятать, рассказать о нем нельзя. Рассказать — прежде всего, было бы очень длинно, надо было бы назвать тогда одну фамилию — не через «о», через «а»… Она закрыла за Дашковским дверь, постояла немного, потом вернулась к окну, и так и не отворив его, села перед ним в темноте, смотрела на давно почему-то невиданные, какие-то забытые звезды, и думала, сложив на коленях руки.
И что-то сквозь всю ее разбушевавшуюся душу поднималось в ней медленно и успокоительно. Это было сознание, что она уже не была тем голодным существом, которое задрожало когда-то от безрадостного чувства к Александру Альбертовичу; она за эти последние месяцы успела грубо, наспех, но насытиться — плохо она это сделала, при возвращении к этому что-то начинало в ней ныть; но кое-как она насытилась, и теперь у нее была возможность перевести дух, что-то обдумать, решить…
XXI
Поздно вечером в тот день к Вере зашла Людмила. Она выкинула из пепельниц окурки, проветрила комнату и сказала, что не советует связываться с женатым. Вера спокойно выслушала ее разговор. Через три дня он повторился снова; еще через три Людмила прямо спросила: был ли Дашковский, и Вера ответила, что не был, но что прислал письмо; приглашение на послезавтра.
— Что же, пойдете?
— Пойду.
— Стар он для вас.
— Да у меня же с ним не роман! Он меня чуть дурой не обозвал при первом знакомстве.
Людмила усмехнулась. В смехе ее теперь было что-то уж очень невеселое: он обнажал ее черные, беззубые десны.
— Тем хуже для вас. Удивительно, как вы всегда позволяете себе на голову садиться.
На Веру напал внезапно беспричинный смех.
— Я вас уверяю, что вы бы ему понравились гораздо больше меня.
В этот день Вера была в веселом настроении, в этот день пришло письмо от Лизи.
Читая его, Вера заметила в себе отчетливое нежелание вернуться к Лизи: все было чудесно там, на милом юге, а Вере, — вот, подите же! — не хотелось возвращаться и, заметив это, она обрадовалась. Да, ей было все равно, кто и что велел ей передать, и что излагала ей в письме сама Лизи. И даже приписка ее: «О К., как ты просила, ничего тебе не пишу», — не рассердила Веру, но тоже развеселила. В этот день она занялась всевозможными домашними делами, до вечера ходила в фартуке, повязав голову платком, перед сном выкупалась, а когда легла, почувствовала, что не хочет и не может уснуть. И впервые, в тишине и мраке ночи, она ощутила, как она сейчас высоко над землей (на седьмом этаже), в каких она сейчас тучах. Шла гроза.
























