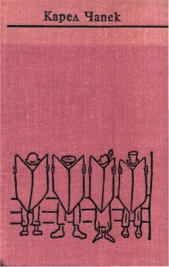Том 8. Статьи, рецензии, очерки

Том 8. Статьи, рецензии, очерки читать книгу онлайн
Восьмой том составляют литературно-критические статьи и воспоминания, рецензии и литературные заметки, исторические очерки.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Такова теория, и она установлена прочно. Но вот наступает тяжелый 1891–1892 год. На огромном пространстве России люди — взрослые, женщины, дети — болеют от голода, страдают и умирают. Один «петербургский житель» пишет Толстому письмо, в котором изображает свое положение: он желал бы помочь голодающим, но он малосостоятельный горожанин, живущий на свой городской заработок. Единственная форма помощи ближнему, которая ему доступна, — это ежемесячное отчисление от своего заработка. Но… деньги зло! Что ему делать?
Был ли это действительно простодушный вопрос искреннего толстовца, или это, наоборот, была форма полемики с толстовскими идеями, это неважно. Вопрос был поставлен ребром, и ответ на него, несомненно, имел большое значение для искренних последователей Толстого. Вопрос состоял в том, как заурядному современному человеку сделать хоть маленькое дело любви и помощи в современных условиях разделения труда и денежного хозяйства.
Л. Н. Толстой ответил на запрос целой статьей, которая, кажется, не была напечатана, но в то время ходила по рукам, литографировалась, читалась в собраниях и всюду оставляла чувство неудовлетворения. Из нее мы, разночинные представители междуполярных общественных слоев — не богатые деревенские помещики и не нищие деревенские пахари — должны были еще раз убедиться, до какой степени и мы сами, и наше положение чужды и Толстому-художнику, и Толстому-моралисту. В статье подтверждалось все-таки, что «деньги зло» и помощь деньгами — не настоящая помощь. Помогать надо любовью. Любовь требует близости. Пусть же господа горожане при наступлении лета едут — «вместо дорогих петербургских дач» — в голодающие деревни. Там непосредственное созерцание умирающих с голоду братьев укажет им, что делать. Вместо холодной и формальной денежной помощи, горожанин «отрежет краюху от собственного хлеба», и это будет делом любви.
Да, только гениальному человеку можно простить такие советы, говорил мне один «горожанин», прочитавший статью… Беда в том, что вопрошатель Толстого едва ли выезжал на дачи. А если выезжал, то ему были доступны, только дощатые сооружения в Шувалове, Парголове, Перкиярви, откуда каждый день с портфелем под мышкой он должен ездить на работу в канцелярию, контору или редакцию… «Уехать на дачу» в голодающие губернии!.. Но тогда он немедленно очутится с семьей в положении того же «голодающего», так как у него нет ни богатого поместья, ни мужичьего надела, а только «образование», гонорар, построчная плата… Он продает свой труд за деньги… и отдать он может только деньги, столько-то рублей в месяц. А столько-то рублей — это, по условиям хлебного рынка, столько-то пудов хлеба… То есть столько-то накормленных людей.
Толстой — честь и слава его живому чувству — сам, по-видимому, не удовлетворился своим ответом, отступил от своей схемы, стал принимать денежные пожертвования и менять деньги на хлеб. И он сделал в голодный год большое и важное благотворительное дело…
А затем… Можно было думать, что этот резкий эпизод, это бьющее в глаза противоречие теории с неизбежной практикой (вред от раздачи денег — деньги зло; необходимость денежной помощи — деньги благо) заставит Толстого остановиться в новом раздумье и что отсюда начнется новое отрицание. Но на этот раз он удержался все-таки в занятой позиции, в атмосфере волшебного сновидения об иудее первого века. Хотя — кто знает — даже и теперь, покончит ли на этом неутомимый искатель, или мы услышим еще раз о новых сомнениях этого вечно бодрого ума… Паломник в страну непосредственности и гармонии духа опять, быть может, возьмет свой страннический посох, чтобы отправиться в новый путь, и самый поздний закат застанет его среди этого неусыпного вечного стремления… [9]
Итак, Толстой-мыслитель — весь в Толстом-художнике, и изъяны его построений почти целиком вытекают из указанного выше пробела в области его художественных наблюдений. Его прекрасная мечта о водворении первых веков христианства может сильно действовать на простые, непосредственные или на уставшие души. Но мы, люди из просмотренного художником междуполярного мира, не можем последовать за ним в эту измечтанную страну. Для этого у нас нет ни достаточно воображения, ни достаточно досуга и, наконец, настроения. Жизнь, усложненная, запутанная современная жизнь с ее условиями обдает нас, междуполярных жителей, бурными вихрями от обоих полюсов. Мы тоже еще недавно верили в близкое царство божие на земле и так же, как Лев Николаевич, признавали формулу: все или ничего. Но суровая история борьбы нескольких поколений напомнила нам старую истину, что «царство божие нудится», что одной проповеди недостаточно даже для воспитания, что формы общественной жизни являются в свою очередь могучими факторами совершенствования личности и что необходимо шаг за шагом разрушать и перестраивать эти формы. В одной из статей Толстого приведены слова Генри Джорджа, которого Лев Николаевич ставит очень высоко. «Я знаю, — говорит Генри Джордж, — что предлагаемая мною реформа не водворит еще царства справедливости на земле. Для этого и сами люди должны стать лучше. Но эта реформа создаст условия, при которых людям легче совершенствоваться…» В этой совершенно правильной мысли — узел того спора, который разделяет порой так резко настроение Толстого-мыслителя и чтущей великого художника передовой части русского общества. Никто не отрицает, что человек должен стремиться стать и внутренно достойным свободы. Дело только в том, что между внутренней и внешней свободой есть органическая связь и для возможности самой проповеди о внутреннем совершенствовании необходимы лучшие, более нравственные формы общественных отношений. И вот почему идет эта тяжкая борьба, которая потребовала уже столько жертв из той именно сферы жизни, которую проглядел Толстой-художник и с которой не желает считаться Толстой-мыслитель и моралист. И потребует еще много. И не для «всего», не для водворения сразу царства божия на земле, которое кажется таким простым, если бы все захотели и могли поверить озаренному светлому сну о первом веке христианской эры, а только для того, чтобы ступень за ступенью, ряд за рядом класть основы, на которых будет построен храм будущей свободы. И когда среди этой тяжкой борьбы, порой идущей среди тьмы и тумана, иудей первого века смотрит с пренебрежительной усмешкой или с тяжким упреком на эти усилия, осуждая не только средства, которые разнообразны, но и цели, за которые люди (а теперь уже массы людей) отдают свою жизнь, — то становится понятным чувство ответной горечи, которое являлось временами по адресу Толстого среди передовых слоев борющегося общества и народа… И порой невольно приходит в голову, что только благодаря тому, что Толстой знает, видит, чувствует лишь самые низы и самые высоты социального строя, — ему так легко требовать «все или ничего», так легко отказываться от «односторонних» улучшений, вроде конституционного строя и ограничения законом внешнего произвола во всех его видах. Низы долго страдали и безропотно, смиренно терпели… До высот, особенно до той высоты, на которой стоит гениальный художник, — не может доплеснуть волна никакого утеснения. А нам, людям из неведомой и непризнанной области, нам нужен от времени до времени хоть глоток свежего воздуха, чтобы не задохнуться в этом царстве гнета и безграничного произвола…
А теперь уже не мы одни, междуполярные жители, но самые низы готовы, по-видимому, отказаться от «внутренней свободы» безропотного и безграничного терпения… И пока будет устроен на земле рай полной свободы — они хотели бы раздвинуть и расширить свое теперешнее помещение, сломать ненужные, сгнившие постройки и — главное — почувствовать себя хоть до известной степени хозяевами в собственном доме.
Я пишу не панегирик к юбилейному дню, а стараюсь только дать посильную характеристику гениального художника и крупного, искреннего, смелого человека. Толстой не нуждается в дифирамбах, а характеризовать его правильно, со всеми свойствами его выдающейся личности — значит дать образ, вызывающий восторг и удивление. Без указания же на отмеченные выше черты характеристика была бы не полна…