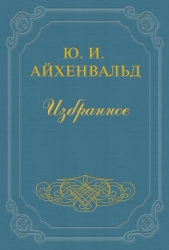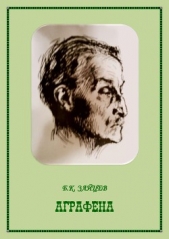Земная печаль

Земная печаль читать книгу онлайн
Настоящее издание знакомит читателя с лучшими прозаическими произведениями замечательного русского писателя Бориса Константиновича Зайцева (1881 —1972). В однотомник вошли лирические миниатюры, рассказы, повести, написанные в 1900-х — начале 1950-х годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Орешка, кажется, обдует сыровара. Очень уж он ловок; похож с лица на Гоголя, но постоянно потеет, и жировая его сущность струится по лбу после каждого стакана чая. Весело и вкусно сидеть плутоватым глазенкам на такой сочной ниве. А Бирге сосет сигару — «regalia capustissima» — полковник утверждает, что это все на капусте, — сосет и поддается хитрому Орешке. Очень уж хитроумен Орешка, хихикает себе: «Ки–хи–хи–хи, вот когда я служил у князя Курцевича… Вот князь Курцевич…»
«Пф–ф-ф! Пф–ф-ф! вы вид–ели когда‑нибудь сэлэный пэс? Нет, вы никогда не видели сэлэный пэс!»
Что уж там насчет зеленых псов, плохо ваше дело, герр Бирге, маслянистый Орешка вас объедет, он уж объезжает вас, забирает вашу армию, в дамки лезет. «Хе–с! хе–с, это как у князя Курцевича, быстрота, натиск». Орешка залился рассыпчатым смешком, лицо сияет блином, на носу выступили капельки, как Божья роса, и он от восторга сейчас обратится в жирный ком и покатится мелким бесом, вприпрыжечку.
Ужинаем мы тут же, на том самом столе, где была битва. Редиска полковничья с маслом — восторг; он изжарил еще «клетцечки» — он говорит «крючечки» — и потчует с видом старого кухонного маэстро. Орешка усасывает творог; Бирге взгрустнул чего‑то, видно, о проигрыше затосковал.
«Вы хороший мой, куражу не теряйте: этот Орешка без мыла между балясинами пролезает, его на том свете, хе-хе, как клетцечки, поджаривать будут». А в самом деле, идея: поджарить Орешку на чертовом огоньке, воображаю, что за славный сок он даст. «Им, вообще, иностранцам, против нас здесь трудно: языка не знают, словно в лесу дремучем, сердяги». И полковник рассказал, как еще в гимназии немец объяснял им залоги: «Волк ел коза — действительный, коза ел волк — страдательный».
Мы веселимся. От бутылочки портеру Бирге тоже прояснился и задымил с тройной силой. Далеко на деревне пели песни, взвизгивали временами — это мой Петька не дает спуску девкам, а мы отхлебываем темной влаги с сыром, смеемся, дышим. Но, как и раньше, бархатный шатер над нами, девичьи взоры звезд, — и так странно: хохочешь над толстым сыроваром, его лысиной, и вдруг поднимешь глаза выше, — и увидишь его звезду; стоит над ним, как над полковником, Орешкой, мною; его сыроварская звезда, не стесняясь тем, что, может быть, он совсем и не знает, что такое залог. Ее тонкие лучики отсвечивают в его лысине, а другие обтекают все филистерское тело, брюхо, — но ничего не стыдятся.
«Полковник, голубчик, завтрашних тетеревов опять прозеваем, будет вам яриться, право». «И нам–с пора, и нам–с, ки–хи… еще много завтра дел…» Орешка надевает широкополую шляпу, бандитскую: «Нам–с еще нужно бы тут на деревню пройтись — ки–хи–хи, тут у вас вечером относительно прекрасного полу превесело бывает–с. Вы как находите, господин Бирге!» У Бирге только живот колыхается от смеху: «А вы умаете, нас не побьют?»
Ну, с Улиссом [86], как Орешка, хоть куда можно. Мы же с полковником долго еще сидим, курим, ведем разговоры. Понемногу все смолкает на селе: разбрелись визжавшие девки, Петька мой лазает где‑то за плетнем в коноплях, а над всем мягко льет сумрак, ночь млеет. «Шлафен», — говорит полковник. Спать, так спать. Розов сам возится, приготовляет, — а спать все же в его комнате трудно: жара. Висят ятаганы, винчестеры, блохи скачут эскадронами, и там на большом турецком диване белеется сам полковник, и краснеет его папироска. Заснул наконец, — теперь можно и улизнуть. Начинает сереть небо, звезды побледнели, это час белых утренних духов, туманов, птиц небесных.
Хорошо — устроиться на телеге с сеном; сено щекочет, но пахнет, и в темноте навеса близко жует теплая лошадиная морда. «Вот тебе раз! Было сено, а вдруг теперь человек», — морда фыркает, и на своем лбу я чувствую ее встряхивающиеся губы. Тихо, тихо; почивайте, полковник, Петька, Бирге, Орешка, Джон и Скромная, — я послушаю раннее утро, подышу запахом сена, погляжу, как вечные куры гомозятся на насесте, — подремлю сам, может быть, в прохладе утренника.
Мы спим. Но что такое? Вот открываю глаза, и во все щели струями свет, свет! Скорей на воздух, не упустить ни минуты, за сарай, к саду. Оттуда тянет огненный бриз, точно шелковые одежды веют в ушах, и, кажется, сейчас побежишь навстречу, и пронижут всего, беспредельно, эти ласкающие лучи; волосы заструятся по ветру назад, как от светлого, плывучего тока. О, солнце, утро!
Полковник мой спит еще, розовый отблеск покоится на сухеньких его чертах, вся изба поседела от росы — и так хочется припасть к этому старому старикану, поцеловать его в лоб, как отца, — жаль будить: стареньким и спать‑то только под утро.
В семь часов мы готовы. В беседке Розов «сервирует» чай, мы наливаем с густейшими сливками, вокруг повилика обняла тонкими кольцами решетку, и высоко в небе чешуятся облачка: баранчики. Это уж скромный, трезвый день. Полковник умыт, нас ждут собаки и тетерева. Хорошо ли я спал? Отлично. Философствуем слегка. «Вас, полковник, в генералы бы должны произвести. Признавайтесь, очень ведь свирепый?» — «Ду–шка, война вздор; самое лучшее в войне — домой ворочаться и пенсии ждать. Наилучшее–с».
Ну Пальмерстон! [87] Я‑то думал, десятка три турков на своем веку укокошил.
А потом, когда выступаем в поход, полковник даже похож на Следопыта [88]: «длинноствольная винтовка» какая-то. Я тоже с ружьем, но на сердце у меня весело и несерьезно до последней степени: не похоже что‑то дело на тетеревов, совершенно не похоже. И проспали слегка, да и солнце, дай Бог ему здоровья, растопило воздух: пышущие волны плавают над полем, как напоены они глубочайшим, шелковым духом, ароматами, нагретым сеном, волей! Джон с Бисмарком давно друзья: в овсах только хребты их выныривают, — носятся как сумасшедшие.
«Тут, батенька, в этой курпажине выводкам быть да быть: замечаете, линяли, помет, а земляничка плоха?»
Правда, мы бредем уж струящимся в ветре березняком. Здесь в ранней тиши утра тайными тропами бродили все эти славные тетеревята за своей мамашей, и глупый черныш «монах» сидел где‑нибудь в кусте и тарахтел, чуфыкал, раздувая красные брови. Только — было да сплыло. Теперь жарко, все в чаще, — а потом, Джон! Джон безумный! «Джон, куда тебя черти носят? Джон, анафема!» Но Джон в солнечном трансе — вместо того чтобы чинно разнюхивать тетеревиные следы, носится как угорелый — тр–р-р, тр–р-р, — ну, конечно, поразгонял в чаще всех косачей, цыплят, мамаш. Надо б тебя орясиной, как Брец советовал, да уж, видно, твое счастье — самому разве побегать высунув язык в этих кустах, березках, огненном аромате? Нынешний воздух — ведь это «ром неба». Нехитро и человеку ошалеть.
А у полковника через плечо фляга — понимаю в чем дело — это «огненная вода». «Слушайте, Розов, невозможно все же на охоте ни разу не выстрелить?»
Ах, глупо несколько, но хорошо, как хорошо, забежать в глубь, в лес, и палить — раз, раз, так, на воздух, с добрыми намереньями, в честь неба, солнца, полковника, Джона!
«Голубушка, вы того… насчет головы у вас как? Не очень нагрело?» Следопыт думает, что я рехнулся, говоря короче, — нет, я могу еще посоображать. Например, с удовольствием выпью «воды жизни», позавтракаю с полковником здесь, в лесу, в тени раскидистого баобаба, даже Джона покормлю чем‑нибудь. А потом солнце перейдет меридиан, полковник разомлеет, я уложу его вздремнуть, буду улыбаться неизвестно чему, Бог знает о чем мечтать, чего никогда не будет, — и отмахивать веточкой мух от полковничьего лица.
Все‑таки — надо домой. Свечерело, и тележка моя подана, у крыльца. «Прощайте, дорогой, крепко, крепко вас целую. Дай вам Бог». — «Нельзя–с, провожу вас пять минут» — это полковник сел на козлы, прямо с земли шагнул длиннейшими своими ногами — корабль наш поплыл. Как мы устали, у всех кружатся немного головы — это от деревенского вина — неба и воздуха. Но приятно ехать с чуть затуманенной головой, полтора десятка верст мимо зелени, в нивах, большаками.