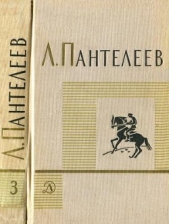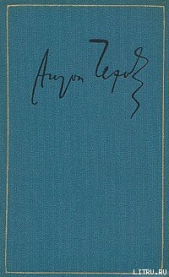Том 3. Повести, рассказы и пьесы 1908-1910

Том 3. Повести, рассказы и пьесы 1908-1910 читать книгу онлайн
В третий том собрания сочинений Леонида Андреева включены повести, рассказы и пьесы 1908–1910 гг.
Комментарии А.П. Руднева и В.Н. Чувакова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот оркестр поравнялся с окном, и вся камера полна веселых, ритмичных, дружно-разноголосых звуков. Одна труба, большая, медная, резко фальшивит, то запаздывает, то смешно забегает вперед — Муся видит солдатика с этой трубой, его старательную физиономию, и смеется.
Все удаляется. Замирают шаги: раз-два! раз-два! Издалека музыка еще красивее и веселее. Еще раз-другой громко и фальшиво-радостно вскрикивает медным голосом труба, и все гаснет. И снова на колокольне вызванивают часы, медленно, печально, еле-еле колебля тишину.
«Ушли!» — думает Муся с легкой грустью. Ей жаль ушедших звуков, таких веселых и смешных; жаль даже ушедших солдатиков, потому что эти старательные, с медными трубами, с поскрипывающими сапогами совсем иные, совсем не те, в кого хотела бы она стрелять из браунинга.
— Ну, еще! — просит она ласково. И приходят еще. Склоняются над нею, окружают ее прозрачным облаком и поднимают вверх, туда, где несутся перелетные птицы и кричат, как герольды. Направо, налево, вверх и вниз — кричат, как герольды. Зовут, оповещают, далеко возвещают о полете своем. Широко машут крылами, и тьма их держит, как держит их и свет; и на выпуклых грудях, разрезающих воздух, отсвечивает снизу голубым сияющий город. Все ровнее бьется сердце, все спокойнее и тише дыхание Муси. Она засыпает. Лицо устало и бледно; под глазами круги, и так тонки девичьи исхудалые руки, — а на устах улыбка. Завтра, когда будет всходить солнце, это человеческое лицо исказится нечеловеческой гримасой, зальется густою кровью мозг и вылезут из орбит остекленевшие глаза, — но сегодня она спит тихо и улыбается в великом бессмертии своем.
Заснула Муся.
А в тюрьме идет своя жизнь, глухая и чуткая, слепая и зоркая, как сама вечная тревога. Где-то ходят. Где-то шепчут. Где-то звякнуло ружье. Кажется, кто-то крикнул. А может быть, и никто не кричал — просто чудится от тишины.
Вот бесшумно отпала форточка в двери — в темном отверстии показывается темное усатое лицо. Долго и удивленно таращит на Мусю глаза — и пропадает бесшумно, как явилось.
Звонят и поют куранты — долго, мучительно. Точно на высокую гору ползут к полуночи усталые часы, и все труднее и тяжелее подъем. Обрываются, скользят, летят со стоном вниз — и вновь мучительно ползут к своей черной вершине.
Где-то ходят. Где-то шепчут. И уже впрягают коней в черные без фонарей кареты.
8. Есть и смерть, есть и жизнь
О смерти Сергей Головин никогда не думал, как о чем-то постороннем и его совершенно не касающемся. Он был крепкий, здоровый, веселый юноша, одаренный той спокойной и ясной жизнерадостностью, при которой всякая дурная, вредная для жизни мысль или чувство быстро и бесследно исчезают в организме. Как быстро заживали у него всякие порезы, раны и уколы, так и все тягостное, ранящее душу, немедленно выталкивалось наружу и уходило. И во всякое дело или даже забаву, была ли то фотография, велосипед или приготовление к террористическому акту, он вносил ту же спокойную и жизнерадостную серьезность: все в жизни весело, все в жизни важно, все нужно делать хорошо.
И все он делал хорошо: великолепно управлялся с парусом, стрелял из револьвера прекрасно; был крепок в дружбе, как и в любви, и фанатически верил в «честное слово». Свои смеялись над ним, что если сыщик, рожа, заведомый шпион даст ему честное слово, что он не сыщик, — Сергей поверит ему и пожмет товарищески руку. Один был недостаток: был уверен, что поет хорошо, тогда как слуху не имел ни малейшего, пел отвратительно и фальшивил даже в революционных песнях; и обижался, когда смеялись.
— Или вы все ослы, или я осел, — говорил он серьезно и обиженно. И так же серьезно, подумав, все решали:
— Ты осел, по голосу слышно.
Но за недостаток этот, как иногда бывает с хорошими людьми, его любили, пожалуй, даже больше, чем за достоинства.
Смерти он настолько не боялся и настолько не думал о ней, что в роковое утро, перед уходом из квартиры Тани Ковальчук, он один, как следует, с аппетитом, позавтракал: выпил два стакана чаю, наполовину разбавленного молоком, и съел целую пятикопеечную булку. Потом посмотрел с грустью на нетронутый хлеб Вернера и сказал:
— А ты что же не ешь? Ешь, подкрепиться надо.
— Не хочется.
— Ну так я съем. Ладно?
— Ну и аппетит же у тебя, Сережа.
Вместо ответа Сергей с набитым ртом, глухо и фальшиво запел:
После ареста он было загрустил: сделано нехорошо, провалились, но подумал: «Есть теперь другое, что нужно сделать хорошо, — умереть», — и развеселился. И как ни странно, со второго же утра в крепости начал заниматься гимнастикой по необыкновенно рациональной системе какого-то немца Мюллера, которой увлекался: разделся голый и, к тревожному удивлению наблюдавшего часового, аккуратно проделал все предписанные восемнадцать упражнений. И то, что часовой наблюдал и, видимо, удивлялся, было ему приятно, как пропагандисту мюллеровской системы; и хотя знал, что ответа не получит, все же сказал торчащему в окошечке глазу:
— Хорошо, брат, укрепляет. Вот бы у вас в полку ввести что надо, — крикнул он убеждающе и кротко, чтобы не испугать, не подозревая, что солдат считает его просто сумасшедшим.
Страх смерти начал являться к нему постепенно и как-то толчками: точно возьмет кто и снизу, изо всей силы, подтолкнет сердце кулаком. Скорее больно, чем страшно. Потом ощущение забудется — и через несколько часов явится снова, и с каждым разом становится оно все продолжительнее и сильнее. И уже ясно начинает принимать мутные очертания какого-то большого и даже невыносимого страха.
«Неужели я боюсь? — подумал Сергей с удивлением. — Вот еще глупости!»
Боялся не он — боялось его молодое, крепкое, сильное тело, которое не удавалось обмануть ни гимнастикой немца Мюллера, ни холодными обтираниями. И чем крепче, чем свежее оно становилось после холодной воды, тем острее и невыносимее делались ощущения мгновенного страха. И именно в те минуты, когда на воле он ощущал особый подъем жизнерадостности и силы, утром, после крепкого сна и физических упражнений, — тут появлялся этот острый, как бы чужой страх. Он заметил это и подумал:
«Глупо, брат Сергей. Чтобы оно умерло легче, его надо ослабить, а не укреплять. Глупо!»
И бросил гимнастику и обтирания. А солдату в объяснение и в оправдание крикнул:
— Ты не смотри, что я бросил. Штука, брат, хорошая. Только для тех, кого вешать, не годится, а для всех других очень хорошо.
И действительно, стало как будто легче. Попробовал также поменьше есть, чтобы ослабеть еще, но, несмотря на отсутствие чистого воздуха и упражнений, аппетит был очень велик, трудно было сладить, съедал все, что приносили. Тогда начал делать так: еще не принимаясь за еду, выливал половину горячего в ушат; и это как будто помогло: появилась тупая сонливость, истома.
— Я тебе покажу! — грозил он телу, а сам с грустью, нежно водил рукою по вялым, обмякшим мускулам.
Но скоро тело привыкло и к этому режиму, и страх смерти появился снова, — правда, не такой острый, не такой огневый, но еще более нудный, похожий на тошноту. «Это оттого, что тянут долго, — подумал Сергей, — хорошо бы все это время, до казни, проспать», — и старался как можно дольше спать. Вначале удавалось, но потом, оттого ли, что переспал он, или по другой причине, появилась бессонница. И с нею пришли острые, зоркие мысли, а с ними и тоска о жизни.
«Разве я ее, дьявола, боюсь? — думал он о смерти. — Это мне жизни жалко. Великолепная вещь, что бы там ни говорили пессимисты. А что если пессимиста повесить? Ах, жалко жизни, очень жалко. И зачем борода у меня выросла? Не росла, не росла, а то вдруг выросла. И зачем?»
Покачивал головою грустно и вздыхал продолжительными тяжелыми вздохами. Молчание — и продолжительный, глубокий вздох; опять короткое молчание — и снова еще более продолжительный, тяжелый вздох.