Колокола
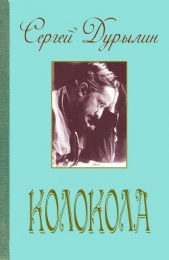
Колокола читать книгу онлайн
Написанная в годы гонений на Русскую Православную Церковь, обращенная к читателю верующему, художественная проза С.Н.Дурылина не могла быть издана ни в советское, ни в постперестроечное время. Читатель впервые обретает возможность познакомиться с писателем, чье имя и творчество полноправно стоят рядом с И.Шмелевым, М.Пришвиным и другими представителями русской литературы первой половины ХХ в., чьи произведения по идеологическим причинам увидели свет лишь спустя многие десятилетия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Дай сменю, — и прибавил: — Не звонишь — душу тянешь.
Иван Филимонович покорно передал Николке веревку, молча отошел к перилам и вздохнул, когда услышал бойкий, звóнистый звон «Наполеона». «Отзвонил звонарь Холстомеров, — подумал Иван Филимоныч. — Колокола путать стал: в Голодай к обедне ударял! Срам!»
Иван Филимоныч не хворал. Навестившему его сыну на вопрос о здоровье он пошутил:
— Старый дубок — не молодой ноготок: нелóмок.
Пимен Иваныч докладывал о делах, но не слушал и, как всегда, отклонял такие доклады Иван Филимоныч.
— Глух я, Пименушка, на то ухо: плохо слышу, а в другое ухо ворк голубиный воркует: ты не трудись. Корнем ты крепок, знаю. Ну и распростирайся.
Холстомеров проводил сына, пожевал принесенных им, любимых своих мятных пряников с тмином и прилег на постель: почувствовал легкость какую-то в ногах — будто они истончали и не держат уже тела. Полежал. Прочел про себя: «Живый в помощи вышняго». Пришел Николка: позвал перед звоном, перед всенощной, перекусить хлеба, для крепости. Перекусил. Солью заинтересовался: «Ишь, блестит ломтиками, как ледышки» — и удивился, что никогда раньше в голову это не приходило. Ноги были легки, но не подламливались, и захотелось позвонить.
Звонил вместе со всеми ко всенощной; и опять заинтересовался: показалось ему впервой, что Княжин, Васин и Наполеон вместе ропщут на Голодая: мешает он им звучать звонко, плавно, охвáтисто и стараются они заглушить его, — но Иван Филимоныч пожалел Голодая и придержал языки у Васина и у Наполеона, и Голодай стал слышнее их надрывистой скорбью своей.
Когда кончился звон ко всенощной, Николка отрезал недовольно:
— Опять у тебя, Иван Филимоныч, Голодай весь звон мутит.
Иван Филимоныч не нашелся, что сказать. От Голодаевой мути у него на душе было слезно и тихо.
Он заглянул в каморку. Не держала она его у себя сегодня. Полежал: лег — ноги опять сделались тонки и слабы; встал; сказал Николке, глядевшему через купола собора на зеленоватую темьянскую даль с голубой бечевой реи:
— Николушка, я звонить сегодня больше не буду.
— Не можется? — заботливо и скупо, как всегда, отозвался Николка.
— Нет, а так, не буду.
Николка зорко посмотрел на него:
— Не здоровится тебе?
— Здоров я. Хлебца, пойду, съем еще.
— Пойди, подкрепись.
Поел хлеба; крупинки соли подержал на ладони — «точно иней», подумал: растаяли. Лег на постель и сразу заснул.
Видел во сне покойницу жену, Анну Герасимовну. В платье фай-франсе, дикого цвета, ест грецкие орехи. А орехи все разгрызены и скорлупы нет. «Кто же орехов тебе нагрыз?» — спросил Иван Филимоныч жену. — «А Кот-Колоток!» — «Колобок?» — переспросил Иван Филимоныч. — «Колотóк, а не Колобок! Он мне разгрыз, а мышь на хвост наступила». Хочет Иван Филимоныч взять орех, а не может: Анна Герасимовна фай-франсе платьем шуршит, и не дает орехов: «Ты не грек грецкие орехи кушать!» — «Не грех!» — переврал кто-то в углу — в комнате по углам-то темно — и сморкнулся и чихнул. — «Вот правда», — Анна Герасимовна отвечает на чих: «Не грек!»
Тут Иван Филимоныч проснулся.
Полная, словно налитая молоком, луна смотрела в окно каморки. Николка от жары спал под колоколами. Чумелый ушел на всю ночь на рыбную ловлю. Иван Филимоныч вышел из каморки, поднялся к колоколам и, осторожно минуя Николку, остановился под большим колоколом. Луна обливала его серебристый бок липучим липовым медом, а под колоколом было черно. Иван Филимоныч щелкнул пальцем по краю колокола и прислушался: не раздалось ни четверть-звука. Холстомерова охватило липкой, как лунный свет, тоскою. Он глянул за перила: всюду был разлит липовый мед лунного света. Сердце у него забилось от сладимой тугой тоски. Он посмотрел на Николку: босой, он спал на шершавом тулупе и на мягкой лунной белизне его лица чернью прочернены были дуги над опущенными во сне ресницами. Иван Филимоныч внимательно поглядел на четкие дуги, на тонкие оборки ресниц, на руку, отброшенную с тулупа на пол, на босые стройные ступни, маленькие не по росту, — точно он хотел запомнить все это и, вздохнув, обошел Николку. От тоски у него вело все внутри. Он нагнул голову и поставил ногу на первую ступеньку бурава. Опираясь руками о кирпичную толщу стен, Иван Филимоныч спустился по бураву и остановился только на предпоследней ступеньке. «А грецкие орехи есть не грех!» — глупо подумалось ему.
Он вышел на площадь. Она была пуста и вся в липовом меду. Лаяла где-то близко собака тоскливым медленным лаем, тянувшимся к луне. Вдруг, к изумлению для себя, Иван Филимоныч ходко пошел по разлившемуся во всю площадь меду. Тоска поджáлась куда-то под тихую, зовкую грусть, а грусть была от медали лунного, от старости, от тишины ли или еще от кого-то, кого Иван Филимоныч не знал, но кто звал его через это разливанное лунное море. Дышалось легче.
Иван Филимоныч перешел площадь, свернул в переулок и вышел на Медвежью улицу. Никого он нигде не встретил. Медная дощечка: «Свободен от постоя» зóвко блеснула ему над воротами. Он постучал негромко в калитку. Залаяли собаки. Отперли не сразу. Дворник спросил, не отпирая: «Кто там?»
Иван Филимоныч хотел ответить: «Хозяин», — но сказал просто: «Отопри». Старик дворник не сразу узнал голос Ивана Филимоныча. Отпер и оглянул Холстомерова; оглянул и тихо сказал:
— Все спят-с.
— Не буди, — сказал Иван Филимоныч. — Я пройдусь.
Он прошел в сад, за домом. В саду было еще медúстей, чем на площади. Мед капал с цветущих вишен, с яблонь и груш, где — белый в голубизну, где — слегка розоватый. Иван Филимоныч пересек сад по средней дорожке, зашел на минуту в беседку. Там, на столе, вянула брошенная кем-то веточка яблонного цвету. Иван Филимоныч взял, поднес к лицу и удивился ее кисловато-сладкому стынущему аромату.
Заколотили на Медвежьей ночные сторожа в колотушку. Иван Филимоныч вышел из беседки и опять глупо говорнýлось в нем: «Греки едят грецкие орехи. А мы, русские, — яблоки. Белый налив». Он бросил веточку на песок, хрустко и вкусно скрипевший под ногами, и пошел к калитке. Ноги были слабы, но легко повиновались ему. За калиткой стоял Веденей, дворник. Иван Филимоныч улыбнулся ему и посмотрел на дом. Ему приметилось, что в доме был огонь в двух-трех окнах. Он отворил калитку, но она показалась ему очень тяжелой, пудовой, и он сразу устал и прислонился к столбу решетки. Тут Веденей, низкий и коренастый старик, подошел к нему и спросил:
— Плохо вам, батюшка Иван Филимоныч?
— Нет, хорошо, — отвечал он, — и тут же почувствовал, что ноги не идут. — Только я устал. Доведи меня.
— Куда же-с? в дом-с?
— Нет, поближе. Я не дойду.
Веденей охватил его и довел, почти донес, до ближайшей двери. Это была войлочная дверь в дворницкую.
Там было душно и пахло валяными сапогами. Иван Филимоныч прилег на постель и закрыл глаза.
Он знал теперь, что умирает.
Надо было, во что бы то ни стало, открыть глаза, но глаза не открывались, и он так, не открывая, прошептал:
— Сына позови.
Веденей бросился из дворницкой.
Тоска опять полыхнулась в сердце Ивана Филимоныча. На полу дворницкой лежал медовый квадрат — мягкий, белый, липкий. Квадрат был перечеркнут черным крестом оконной рамы. На этот крест смотрел Иван Филимоныч сквозь полуоткрытые веки. Крест был неподвижен. У Ивана Филимоныча заслезилось в глазах от его черной неподвижности на белом-белом плате лунного света.
Взвизгнул блок двери, и на носках вошел Пимен Иваныч, в белом балахоне. Он нагнулся над отцом, но веки у того были опущены, и Пимен Иваныч не решился его окликнуть. Он кашлянул в кулак от волнения.
Иван Филимоныч, не открывая глаз (веки опять не слушались) коснулся его холодеющей рукой и тихо вымолвил:
— Вот, пришел звонарь умирать.
Рука его потянулась к седеющей крепкой голове Пимена Иваныча, но не нашла ее и упала на постель. Пимен Иваныч нагнулся и поцеловал ее и, глотнув слезы, сказал:
— Вернулись, батюшка, в родной дом.
Не поднимая век (они были тяжелы, как язык колокола), Иван Филимоныч поправил сына:


























