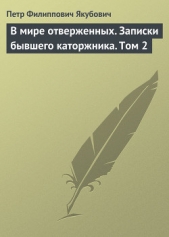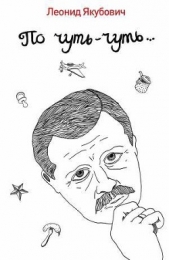В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
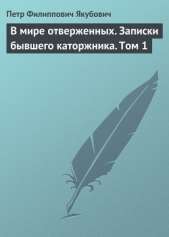
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1 читать книгу онлайн
Среди литературы, посвященной царской каторге второй половины XIX века, главным образом документальной, очерковой, этнографической, специальной (Чехов, Максимов, Дж. Кеннан, Миролюбов, Ядринцев, Дорошевич, Лобас, Фойницкий и др.), ни одна книга не вызвала такой оживленной полемики, как «В мире отверженных». В литературном отношении она была почти единодушно признана выдающимся художественным произведением, достойным стоять рядом с «Записками из мертвого дома» Достоевского. Сам Якубович, скромно оценивая свой труд, признавал, что его замысел сложился под влиянием замечательного творения Достоевского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да ни дна тебе, ни покрышки! Бесстыжие шары твои! Нашел чем попрекать: причиндалом я, вишь, был… А были ль у тебя, как у меня, руки так надсажены? Ты сам сейчас сказывал, как ты работал-то, а у меня эвон вся кожа с пальцев послазила, паршивые ваши рубашки стирамши! В шары только наплевать тебе стоит, глот енисейский!
— Чего лаешься, чего ты лаешься, пермяк, соленые уши? Ишь хайло-то разинул! Что ты видел в своей Перме? Что ты знаешь, что понимаешь?
— Ты много знаешь, много горя видел, челдон желторотый!..
— Ну, я-то не желторотый, положим: пятьдесят третий год на свете живу, видал кое-что и знаю. А вот что ты-то знаешь, так то я забывать уже стал!
Я понял, что теперь интересные для меня темы на время исчерпаны, что будет тянуться бесконечная перебранка, и ушел на свое место, в угол камеры. Впоследствии я узнал, однако, что такие перебранки редко кончаются в арестантской среде потасовками; мне кажется, даже реже, чем в культурной среде… Нельзя сказать, чтоб это объяснялось отсутствием у арестантов самолюбия. О! я видал страшные вспышки самолюбия, когда дело касалось отношений с таким человеком, которого они считали в чем-нибудь выше себя… Тогда оказывалось у них такое тонкое чутье к обиде, какое не всегда сыщешь и у интеллигентных людей. Другое дело между собою, со своим братом. У меня волосы становились порой дыбом от ужасных ругательств, которыми они осыпали друг друга: не было такого грубого слова, такого обидного словесного оборота, которым они не старались бы уязвить противника; не только ему самому, но и матери, и отцу, и землякам его доставалось. Мне думалось, что после такого крупного разговора соперникам ничего больше не остается, как разойтись кровными, непримиримыми врагами… И что же? Через какой-нибудь день, а иногда и час, я видел их опять мирно и дружелюбно беседующими. Переход в неговорение, так часто имеющий место в образованной среде, для них совершенно непонятная и невозможная вещь. Самая страшная перебранка для них, в сущности, не что иное, как пустое словопрение, своего рода артистический турнир. Бывают, конечно, как везде и во всем, свои исключения; но, повторяю, за несколько лет моего пребывания в Шелайском руднике не больше двух-трех раз пришлось мне наблюдать потасовки и мордобои, причиной которых были словесные оскорбления. [28]
Зато редки между арестантами явления и другого сорта, случаи тесной и нежной дружбы. Каждый глядит на каждого не как на товарища по беде, а скорее как волк на волка, враг на врага… Самое слово «товарищ» — к месту сказать, одно из самых любимых арестантских слов — выражает, в сущности, очень немногое: товарищами зовутся люди, пьющие и едящие вместе, из одной посуды. Но такие экономические связи происходят большею частью случайно. Слово «друг» еще меньше осмысливается.
Ссора Чирка и Гончарова была между тем прервана появлением надзирателя, объявившего, что старостой в нашей камере назначается старичок Гандорин, который и вчера уже исполнял временно эту должность. Затем надзиратель предложил камере высказаться, кого желает она выбрать общеартельным старостой, прачками, парашниками, хлебопеками. Началось галденье. Назывались все мало знакомые мне фамилии. Из нашего номера предложили Кузьму Чирка в прачки, а Яшку Перванова (он же Тарбаган) — в парашники.
— Тебе, Яша, уж не впервой этим делом займоваться, этот спирт по твоему носу… Да и ты тоже, Чирок, к бабьему положению привычен. Знай себе наволоки исстирывай!
— Вот, дурак, какое слово сказал! За него.6 тебе плюх надавать надо.
— Ну-ну! — прикрикнул надзиратель. — В старосты кого хотите?
Все переглянулись между собой и помолчали немного. Гончаров первый указал на меня.
— Вот они у нас грамотные, да и люди совсем особого рода. Кривизны уж никакой не будет…
— Николаича, Николаича в старосты! — загалдел весь номер. Но я замахал, что называется, и руками и ногами.
— Увольте, господа! Мне неудобно.
Пытались уговаривать меня, но я наотрез отказался. [29]
К великому моему удивлению, и в большинстве других номеров в первую голову называли меня; а я так наивно предполагал, что большинство не знает и о самом моем существовании!
Надзиратель везде объявлял, что я уж отказался, и потому, погалдев и поспорив некоторое время, сошлись на некоем Колпакове, молодом развязном парне из червонных валетов. Колпакова, впрочем, Лучезаров не утвердил, и тогда в старосты выбран был другой арестант, некто Юхорев.
Между тем старик Гандорин принес из кухни небольшой бак с «крошонкой», то есть с мелко нарезанным мясом, полагавшимся на двадцать человек нашей камеры. На каждого арестанта в нерабочий день отпускалось 32 золотника сырого мяса, а в рабочий 48 золотников. За час или за полтора до раздачи обеда повар в присутствии общего старосты и дневального вынимал мясо из котла, освобождал его от костей и разрезал на столе большими ножами на мелкие кусочки. Затем староста раскладывал эту «крошонку» в десять бачков по числу камер (кухня считалась за камеру) и живущего в них народа. Раскладка производилась голыми руками, не всегда, конечно, чистыми… Камерные старосты уносили бачки в свои номера, и там происходила вторичная раскладка.
С невольным омерзением смотрел я, как плюгавый старикашка Гандорин, не помыв даже рук, размещал на грязном столе (который он обтер, впрочем, своей шапкой) двадцать мясных кучек. С рук его текло сало; кроме того, и из носа у него текла подозрительная жидкость, которую он принужден был ежеминутно вытирать тою же сальною рукою. От этого вскоре и нос его и губы получили глянцевитый вид. Старичок отличался, видимо, большой добросовестностью: ему все казалось, что одна кучка больше, другая меньше, чем следует, и он долго возился, перекладывая из одной кучки в другую по ниточке мяса. Меня чуть не вырвало при виде этой отталкивающей операции. Я лег на нары и отвернулся к стене. Но дележка была уже окончена; арестанты бросились разбирать свои порции. Голод, как говорится, не тетка, и, прождав некоторое время, я тоже подошел взять свою долю. Меня удивила ее скромная величина: счетом было ровно пять кусочков мяса, каждый с наперсток величиною, и из этого числа половина состояла из неудобных для жевания сухожилий. Я полюбопытствовал спросить, столько ли дается мяса, в других рудниках.
— По закону везде одно и то же полагается, — отвечал словоохотливый Гончаров, — только… это уж от нашего брата зависит, чтоб все, что полагается, до рта доходило. Это еще хорошая вот порция: раз, два, три, четыре… Что же! шесть кусочков у меня. Это еще слава богу! В нерабочий день можно быть сытым. А в других тюрьмах, где нашей кобылке полная воля дана, поверите ли, такой порции в светлый Христов день не получишь!
— Почему же так? Коли там ваша воля — значит, начальство там уж не обманет вас.
Все засмеялись над моей наивностью. Гончаров тоже хихикнул и помолчал немного.
— Как вы судите, по-робячьи! — сказал он наконец. Да наш брат кобылка хуже начальства. Начальство-то у меня не украдет, потому я сам мошенник. А свой украдет. А не он у меня украдет, так я у него! На то мы и мошенники…
— Кто же мясо крадет?
— Кто! … Да разве там мало причиндалов, на кухне-то? Староста, повара, дневальные, костогрызы…
— Это что за костогрызы?
Которые кости грызут: жиганы, которые проигрался, и есть нечего. Порцию-то свою иной за месяц вперед спустит. Ну, и толчется в кухне, когда мясо крошат. Иваны тоже у старосты и у поваров покупают.
— А как же я слышал, будто у арестантов строго преследуется воровство в тюрьме, у своего брата?
— Это точно. Самым последним человеком тот считается у нас, кто у своих же ворует — табак там али сахар. И помни: ежели поймают вора в тюрьме, до смерти заколотят! Я сам всю жизнь вором был, чего таиться? Первой степени подлец и разбойник был; ну, а в тюрьме… Тут я честный человек и морду тому поколочу, сукиному сыну, кто скажет, что я вот хоть с эстолько украл когда у своего брата арестанта!