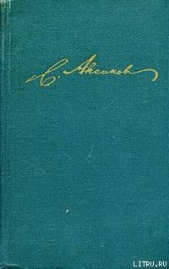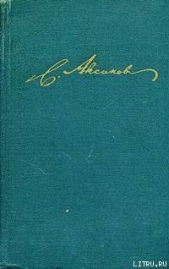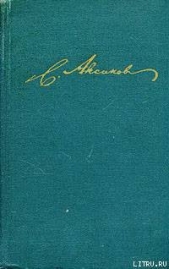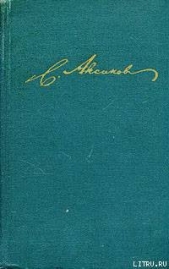Том 2. Воспоминания. Очерки, незавершенные произведения

Том 2. Воспоминания. Очерки, незавершенные произведения читать книгу онлайн
В истории русской литературы имя Сергея Тимофеевича Аксакова занимает видное место. Выдающийся мастер реалистической прозы, писатель, он в совершенстве владел тонким и сложным искусством изображения природы, был изумительным знатоком всех сокровенных богатств русского народного слова.
В настоящее издание вошли наиболее значительные художественные, мемуарные произведения, а также критические статьи Сергея Тимофеевича Аксакова.
Том 2: Воспоминания. Очерки, незавершенные произведения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
О, где ты, волшебный мир, Шехеразада человеческой жизни, с которым часто так неблагосклонно, грубо обходятся взрослые люди, разрушая его очарование насмешками и преждевременными речами! Ты, золотое время детского счастия, память которого так сладко и грустно волнует душу старика! Счастлив тот, кто имел его, кому есть что вспомнить! У многих проходит оно незаметно или нерадостно, и в зрелом возрасте остается только память холодности и даже жестокости людей.
Лето провел я в таком же детском упоении и ничего не подозревал, но осенью, когда я стал больше сидеть дома, больше слушать и больше смотреть на мою мать, то стал примечать в ней какую-то перемену: прекрасные глаза ее устремлялись иногда на меня с особенным выражением тайной грусти; я подглядел даже слезы, старательно от меня скрываемые. Встревоженный и огорченный, со всеми ласками горячей любви я приставал с расспросами к моей матери. Сначала она уверяла меня, что это так, что это ничего не значит; но скоро в ее разговорах со мной я начал слышать, как сокрушается она о том, что мне не у кого учиться, как необходимо ученье мальчику; что она лучше желает умереть, нежели видеть детей своих вырастающих невеждами; что мужчине надобно служить, а для службы необходимо учиться… Сердце сжалось у меня в груди, я понял, к чему клонится речь, понял, что беда не прошла, а пришла и что мне не уйти от казанской гимназии. Мать подтвердила мою догадку, и сказала, что она решилась; а я знал, что ее решенья тверды. Несколько дней я только плакал и ничего не слушал, и как будто не понимал, что говорила мне мать. Наконец, ее слезы, ее просьбы, ее разумные убеждения, сопровождаемые нежнейшими ласками, горячность ее желания видеть во мне образованного человека были поняты моей детской головой, и с растерзанным сердцем я покорился ожидающей меня участи. Все мои деревенские удовольствия вдруг потеряли свою прелесть, ни к чему меня не тянуло, все смотрело чужим, все опостылело, и только любовь к матери выросла в таких размерах, которые пугали ее. Меня стали приготовлять к школьному ученью. Для своего возраста я читал как нельзя лучше, но писал по-детски. Отец еще прежде хотел мне передать всю свою ученость в математике, то есть первые четыре арифметические правила, но я так непонятливо и лениво учился, что он бросил ученье. Тут все переменилось: в два месяца я выучил эти четыре правила, которые только одни из всей математики и теперь не позабыты мной; в остальное время до отъезда в Казань отец только повторял со мной зады; в списывании прописей я достиг также возможного совершенства. Все это я делал на глазах у своей матери и единственно для нее. Она сказала мне, что сгорит со стыда, если меня не похвалят на экзамене, который надобно было выдержать именно в этих предметах при вступлении в гимназию, что она уверена в моих отличных успехах, – этого было довольно. Я не отходил от матери ни на шаг. Напрасно посылала она меня погулять или посмотреть на голубей и ястребов. Я никуда не ходил и всегда отвечал одно: «Мне не хочется, маменька». С намерением приучить меня к мысли о разлуке мать беспрестанно говорила со мной о гимназии, об ученье, непременно хотела впоследствии отвезти меня в Москву и отдать в университетский благородный пансион, куда некогда определила она, будучи еще семнадцатилетней девушкой, прямо из Уфы, своих братьев. Ум мой был развернут не по летам: я много прочел книг для себя и еще более прочел их вслух для моей матери; разумеется, книги были старше моего возраста. Надобно к этому прибавить, что все мое общество составляла мать, а известно, как общество взрослых развивает детей. Итак, она могла говорить со мной о преимуществах образованного человека перед невеждой, и я мог понимать ее. Будучи необыкновенно умна, владея редким даром слова и страстным, увлекательным выражением мысли, она безгранично владела всем моим существом и вдохнула в меня такую бодрость, такое рвение скорее исполнить ее пламенное желание, оправдать ее надежды, что я, наконец, с нетерпением ожидал отъезда в Казань. Мать моя казалась бодрою и веселою; но чего стоили ей эти усилия! Она худела и желтела с каждым днем, никогда не плакала и только более обыкновенного молилась богу, запершись в своей комнате. Вот где было настоящее торжество безграничной, бескорыстной, полной самоотвержения материнской любви! Вот где доказала мне мать любовь свою! Я был прежде больной ребенок, и она некогда проводила целые годы безотлучно у моей детской кровати; никто не знал, когда она спала; ничья рука, кроме ее, ко мне не прикасалась. Впоследствии она перешла весною в ростополь, страшную, посиневшую реку Каму, уже ни для кого не проходимую, ежеминутно готовую взломать свои льды, – узнав, что тоска меня одолела и что я лежу в больнице… Но это ничего не значит в сравнении с решимостью отдать в гимназию свое ненаглядное, слабое, изнеженное, буквально обожаемое дитя, по девятому году, на казенное содержание, за четыреста верст, потому что не было других средств доставить ему образование.
Пришла опять зима, и в декабре мы отправились в Казань. Чтобы не так было грустно матери моей возвращаться домой, по настоянию отца взяли с собой мою любимую старшую сестрицу; брата и меньшую сестру оставили в Аксакове с тетушкой Евгенией Степановной. В Казани мы остановились на прошлогодней квартире, у капитанши Аристовой. С Максимом Дмитричем Княжевичем, мы переписывались из деревни; заранее знали, что есть казенная ваканция в гимназии, и заранее приготовили все бумаги, нужные для моего определения. Итак, недели через две, познакомясь предварительно через Княжевича со всеми лицами, с которыми надобно было иметь дело, и помолясь усердно богу, отец мой подал просьбу директору Пекену.
Совет гимназии предложил главному надзирателю (он же был инспектором) Николаю Ивановичу Камашеву проэкзаменовать меня, а доктору Бенису освидетельствовать в медицинском отношении. Камашев находился в отпуску; должность главного надзирателя исправлял надзиратель «благонравной» комнаты Василий Петрович Упадышевский, а должность инспектора классов – старший учитель российской словесности Лев Семеныч Левицкий. Оба были добрые и ласковые люди, а Упадышевский впоследствии сделался истинным ангелом хранителем моим и моей матери; я не знаю, что было бы с нами без этого благодетельного старика. Поехав подавать просьбу директору, отец взял меня с собою, и директор приласкал меня. Левицкий был нездоров и не мог приехать в совет гимназии, и потому отец повез меня к нему на квартиру. Лев Семеныч был любезный, веселый, краснощекий толстяк уже с порядочным брюшком, несмотря на свою молодость. Он очаровал своим приемом обоих нас: начал с того, что разласкал и расцеловал меня, дал мне читать прозу Карамзина и стихи Дмитриева – и пришел в восхищение, находя, что я читаю с чувством и пониманием; заставил меня что-то написать – и опять пришел в восхищение; в четырех правилах арифметики я также отличился; но Левицкий, как настоящий словесник, тут же отозвался о математике с пренебрежением. По окончании экзамена он принялся меня хвалить беспощадно; удивлялся, что мальчик моих лет, живя в деревне, мог быть так хорошо приготовлен. «Да кто же был его учителем в каллиграфии? – добродушно смеясь, спросил Лев Семеныч у моего отца, – ваш собственный почерк не очень красив?» Отец мой, обрадованный и растроганный почти до слез похвалами своему сыну, простодушно отвечал, что я достиг до всего своими трудами под руководством матери, с которою был почти неразлучен, и что он только выучил меня арифметике. Он прибавил к этому, что моя мать жила всегда в губернском городе, что мы недавно переехали в деревню, что она дочь бывшего значительного чиновника и большая охотница до книг и до стихов. «А, теперь я понимаю, – воскликнул Левицкий, – отчего печать благонравия и даже изящества лежит на вашем милом сыне – это плод женского воспитания, плод трудов образованной матери». Мы уехали, очарованные им. Доктор Бенис, который имел прекрасный дом на Лядской улице, принял нас очень учтиво и без всякого затруднения дал свидетельство о моем здоровье и крепком телосложении. Воротясь домой, я заметил, что мать моя много плакала, хотя глаза ее были такого свойства, что слезы не мутили их ясности и никакого следа не оставляли. Отец мой с жаром рассказал все случившееся с нами. Мать устремила на меня взгляд, выражения которого я не забуду, если проживу еще сто лет. Она обняла меня и сказала: «Ты мое счастье, ты моя гордость». Чего мне было больше? И я по-своему был счастлив, горд и бодр.