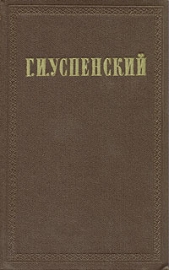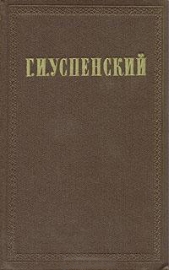Из деревенского дневника
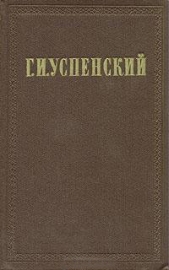
Из деревенского дневника читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но вот на ваше счастье мост — и хороший мост, — и уж вам легче. Его правильность и известного рода изящность, старательность постройки и отделки почему-то понятней для вас и веселее, чем унылый вид деревни. Но это еще не все. Пройдя мост с одного конца на другой и приближаясь к крестьянским постройкам, мы, опечаленные серьезно-задумчивою бедностью деревни, с радостью встречаем настоящую мелочную лавку с настоящей вывеской: изображены на ней, по обыкновению, фрукты, виноградные кисти, маленький китаец, а продается деготь, хлеб, кнуты, вожжи, лапти, ситец, двухкопеечные сказки и трехкопеечные папиросы — с одной стороны — это для крестьян, и, с другой, писчая бумага, почтовые марки и папиросы фабрики Петрова — для высшего общества. Лавка эта выступила вперед из ряда крестьянских домов, поместившись на самом бойком месте. Деревня у нее за спиной, направо господский дом, налево волость, кабак, а за волостью, в расстоянии версты — церковь. Кроме этого, мимо нее бежит почтовая дорога на уездный город N.
По воскресным дням лавка эта набита битком; но из двадцати человек, преимущественно женщин, присутствующих в лавке, покупают (купят или нет — это еще неизвестно) никак не больше двух. Остальные только смотрят, любуются красивым видом ситцев, папиросных оберток, трогают товары рукой, прикасаются пальцем. И унылой деревеньке хочется так же чего-нибудь повеселей, покрасивей, как хочется и вам, постороннему в ней человеку. И деревеньку тоже тянет распрямиться иной раз и освободиться на минуту от своей трудовой задумчивости и исполненного серьезной заботы однообразия. Но постороннего, не деревенского человека, человека, долго жившего в городах, эта серьезная трудовая забота, веющая от всей деревенской обстановки, поражает почти испугом. Ему тотчас нужно чего-нибудь полегче, поснисходительней этих серьезных впечатлений; ему хочется куда-нибудь укрыться от них, и уж он наверное, и без всякой надобности, прежде всего сунется в лавку, если она есть, в волость, к «попу», в господский дом… Он рад будет встретить немецкий сюртук, хорошо запряженный тарантас, даже обертку знакомого табаку. Так пугает русского, отторженного от народной жизни человека подлинный вид и смысл обыкновенного деревенского угла.
Вот какова существенная черта производимого деревнею впечатления. Эта трусливость перед деревней слагается из внезапной устали, одолевающей вас (еще только чутьем понимающего и только издали подавляемого размерами деревенского труда), из страха перед вашим бессилием и, к чести вашей, из капельки стыда.
«Легче, легче! — подавленное впечатлениями, вопиет все ваше существо: — чего-нибудь не так просто-правдивого, не так утомительно-ясного, не так кротко и покорно стыдящего вас… Чего-нибудь поразнообразнее, пообильнее красками, чего-нибудь, что бы не так правдиво и сильно действовало на вас и так дерзко не поднимало бы вашей умеющей прилаживаться к обстоятельствам совести».
В ряду таких облегчающих робкую интеллигентную душу пристанищ первое место несомненно занимает помещичий дом. Говорю на этот раз не о том только помещичьем доме, который украшает собою левый берег Слепухи, но о помещичьем доме всех деревенских углов земли русской.
Редкое поистине явление представляют эти рассадники отечественной аристократии. «Чего-чего не было тут в старые годы! Чего-чего не насмотрелись эти стены», — подумается всякому размышляющему о русском житье-бытье, а между тем в десять — пятнадцать лет наидлиннейшие хроники наидревнейших господских домов забываются почти бесследно, не оставляя в окружающих ни единого мало-мальски определенного воспоминания, то есть не оставляя, после своего долголетнего процветания, почти ничего, что бы имело какую-нибудь законность, смысл, соответственный этой законности явления, и соответственную им внешнюю форму. Всматриваясь в длинную историю помещичьего дома, как нельзя лучше убеждаешься, что в однообразных равнинах русской земли, в однообразнейших, все подводящих под одно, условиях естественных нет возможности вытанцоваться, самостоятельно выделиться из этого однообразия чему-нибудь такому в смысле привилегированности, что бы хоть капельку равнялось в прочности привилегированности старого европейского мира. Простор, то есть в буквальном смысле обилие места для всех, и сознание этого простора, сознание того, что «всем хватит», не дают возможности развиваться в должной мере тому азарту эгоизма, которым должен был жить «благородный» человек. Я знаю, что у меня «может быть» много, что у меня есть это многое; знаю, что со временем оно будет мое, — и я уж вполовину покойнее, апатичнее переношу свое теперешнее затруднительное положение. А это сознание, что всем хватит, всегда жило и живет в крестьянине; оно и теперь помогает крестьянину изо дня в день тянуть свою лямку и позволяет ему быть иной раз очень веселым в самых крутых обстоятельствах. Оно было коротко знакомо и барину, который должен был чуять, что только казенное право ограждает его привилегированное положение, удерживает за ним его тысячи десятин и что без этого казенного ограждения решительно нет никаких резонов именно ему стоять выше последнего мужика, так как и этот последний мужик, никого и ничто не стесняя, ни у кого ничего ровнешенько не отнимая, может иметь те же самые тысячи десятин.
Именно у барина-то русского никогда и не было внутренней причины быть жадным, воевать за свое привилегированное положение, потому что у него и врагов-то не было никаких.
В высокой ограде своих казенных прав он сидел один, точно в тюрьме в одиночном заключении, и положительно сходил с ума. Кроме таких радостей, как в самом деле довольно хорошо разработанное служение еде и «греху», — что такое, хотя мало-мальски в привлекательных формах, осталось в назидание потомству даже от периода так называемых «настоящих» бар?.. Из тех отрывочных рассказов о прошлом, которые уцелели в воспоминании старожилов, вы услышите об ужасных зверствах, возводимых на степень удовольствия, об ужасных бесчинствах против слабых и бессильных попов и чиновников, бесчинствах, тоже имевших целью потеху, развлечение, и волей-неволей увидите, что наш феодал не мог выдумать ни удовольствия, ни потехи, ни развлечения, мало-мальски похожих на удовольствия здорового человека. Пороть и наслаждаться этим — надо быть больным; приклеить попу бороду к столу — надо быть пьяным; вывалять станового в дегтю и пуху и потом заплатить ему — затея человека и не трезвого и не умного. Мало того, похоже ли на правду — быть другом человечества, человеком неописанной доброты, «хрустальной душой», и не сделать так, чтобы об этих дорогих качествах человеческой души и мысли хоть единое словечко припомнилось народом, не говоря уже о реальных фактах, которых настоящие, не больные человеколюбцы могли бы, при своем всемогуществе (по крайней мере в своем собственном углу), предъявить несметное множество? Словом, не вдаваясь слишком в подробные воспоминания, касающиеся внутреннего содержания и внешнего обличия старобарского житья-бытья, невольно убеждаешься в том, что мозг, ум, сердце плохо и нездорово делали свое дело в этих обширных, когда-то блистательных господских дворцах, и, напротив, что-то напоминающее расслабление мозга, вялость, упадок всех сил, болезненнейшие нервные припадки характеризует собою шумный период боярского житья. Ничего похожего нет на ястребиный образ жизни голодного, но жадного европейского хищника, безжалостно рвавшего куски из чужих рук и утаскивавшего их в свои орлиные гнезда. Это — ястреб. А наш барин — я и не знаю, что такое. Сидит и объедается, сечет, от скуки заводит тяжбу, бьет направо и налево и всем за это платит, «колобродит», в веселые минуты хоронит осетра или опять-таки дерет станового, попа. Еще хуже барин-вольтерьянец, революционер, собирающий оброки, продающий крестьянские деревни на своз. Какому ястребу придет в голову рассуждать о благе цыплят и в то же время хватать их? Ястреб только хватает и ест. Или: — какой голубь будет пожирать своих птенцов, как пожирал их голубь-революционер — барин, торговавший крестьянами? Все это таило в себе неправду, все говорило о недостатке внутренней сильной и резонной причины быть феодалом, барином. Не было причины стать во враждебные отношения к «черни непросвещенной», так как она и не думала враждовать. Ну как же, из чего, из какого материала выделать свое барство при таких неблагоприятнейших для неравенства условиях?