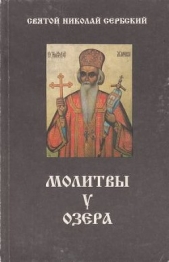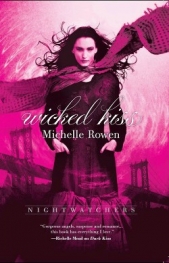Опавшие листья (Короб первый)

Опавшие листья (Короб первый) читать книгу онлайн
В.Розанов (1856–1919 гг.) — виднейшая фигура эпохи расцвета российской философии «серебряного века», тонкий стилист и создатель философской теории, оригинальной до парадоксальности, — теории, оказавшей значительное влияние на умы конца XIX — начала XX в. и пережившей своеобразное «второе рождение» уже в наши дни. Проходят годы и десятилетия, однако сила и глубина розановской мысли по-прежнему неподвластны времени…
«Опавшие листья» - одно из самых известных произведений В.В. Розанова. В его основе лежит принцип случайных записей: заметки на полях, мысли, впечатления, подчас бесформенные и непоследовательные.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Неужели же вся жизнь легкомыслие?
Вся.
Памятники не удаются у русских (Гоголю и т. д.), потому что единственный нормальный памятник — часовня, и в ней неугасимая лампада «по рабе Божием Николае» (Гог.).
Милая Надежда Роман. (Щерб.) незадолго до кончины говорила мужу: «Поставь мне только деревянный крест». Т. е. даже не каменный. Между тем она своей маме сшила зимнее пальто на белой шелковой подкладке. Та была больная, — душевно (несколько), от семейного несчастия, — и у нее была такая придурь: театр, красивая одежда; жила же в бедности. Деньги на пальто дочь собрала из уроков рисования.
Вот ее несколько слов, оброненных на ходу, стоят всех наших «сочинений» по религии.
Какая она вся была милая. Она знала мое «направление» (отрицательное) и никогда меня не осудила.
(Между прочим, она любила очень и античное искусство. Мужа возила «по заграницам»).
А знаете ли вы, что урожденная она — Миллер (отец ее — в Учетном банке заведовал каким-то отделом). Сестра ее совсем пошла в монахини.
А мы, русские, бросаем веру и монастыри.
Да, этот странный занавес, замыкавший одно отделение от соседнего, — не стена, не решетка, — занавес цветной и нарядный, наконец — со складками, как бы со сборками, — и куда так страшно запрещено было входить, куда единожды в год входивший не вносил света, не мог иметь при себе свечи или факела, что было бы так естественно, чтобы не наткнуться и чтобы сделать там, что нужно, — он в высшей степени напоминает просто сборчатую цветную юбку, подол, «крáя которого», конечно, «никто не поднимает»?
Отвечает ли этому остальное расположение всего и предметы там поставленные?
(скиния Моисея). [140]
Нужно, чтобы о ком-нибудь болело сердце. Как это ни странно, а без этого пуста жизнь.
(в ват…).
Отроду я никогда не любил читать Евангелия. Не влекло. Читал — учась и потом, — но ничего особенного не находил. Чудеса (все «победы» над природой) меня не поражали и даже не занимали. Слова, речи — я их не находил необыкновенными, кроме какой-то загадки лица, будущих знаний (разрушение храма и Иерусалима) [141] и чего-то вещего. Напротив, Ветхим Заветом я не мог насытиться: все там мне казалось правдой и каким-то необыкновенно теплым, точно внутри слов и строк струится кровь, при том родная! Рассказ о вдове из Сарепты Сидонской [142] мне казался «более христианским, чем все христианство».
Тут была какая-то врожденная непредрасположенность: и не невозможно, что она образовалась от ранней моей расположенности к рождению. Есть какая-то несовмещаемость между христианством и «разверстыми ложеснами» (Достоев.).
(однако певчих за обедней с «Благословен Грядый во имя Господне» — я никогда не мог слушать без слез. Но это мне казалось зовом, к чему-то другому относящимся к Будущему и вместе с тем к Прежде Покинутому).
Что это было у меня в юности (после 26 лет), предчувствие или желание: что я хожу за больной. Полумрак, и я хожу между ее кроватью и письменным столом. И непременно — вечер.
Так и вышло.
Сравнивал портрет Д. С. Милля с Погодиным. Какое богатство лица у второго, и бедность лица у первого.
Все-таки русская литература как-то несравненно колоритна. Какие характеры, какое чудачество. Какая милая чепуха. Не вернусь ли я когда-нибудь к любви литературы? Пока ненавижу.
(за уборкой фотогр. карточек, студентом накупленных).
«Чистосердечный кабак» остается все-таки кабаком. Не спорю — он не язвителен; не спорю, в нем есть что-то привлекательное, «прощаемое». Однако ведь дело-то в том, что он все-таки кабак. Поэтому русская ссылка, что у нас «все так откровенно», нисколько не свидетельствует о золотых россыпях нашего духа и жизни. Ну-ка сложим: præsens кабак, perfectum кабак, futurum кабак: получим все-таки один кабак, в котором задохнешься.
(При размышлении о Ц-ве, сказавшем, что наше духовенство каково есть, таковым и показывает себя, — что меня поразило и привлекло).
Чему я, собственно, враждебен в литературе?
Тому же, чему враждебен в человеке: самодовольству. Самодовольный Герцен мне в той же мере противен, как полковник Скалозуб. Счастливый успехами — в литературе, в женитьбе, в службе — Грибоедов, в моем вкусе, опять тот же полковник Скалозуб. Скалозуб нам неприятен не тем, что он был военный (им был Рылеев), а тем, что «счастлив в себе». Но этим главным в себе он сливается с Грибоедовым и Герценом.
(идя к доктору).
Кажется, что существо литературы есть ложное; не то чтобы «теперь» и «эти литераторы» дурны: но вся эта область дурна, и притом по существу своему, от «зерна, из которого выросла».
— Дай-ка я напишу, а все прочтут?..
Почему «я» и почему «им читать»? В состав входит — «я умнее других», «другие меньше меня», — и уже это есть грех.
Совершенно не заметили, что есть нового в «У.». Сравнивали с «Испов.» Р., [143] тогда как я прежде всего не исповедуюсь.
Новое — тон, опять — манускриптов, «до Гутенберга», для себя. Ведь в средних веках не писали для публики, потому что прежде всего не издавали. И средневековая литература, во многих отношениях, была прекрасна, сильна, трогательна и глубоко плодоносна в своей невидности. Новая литература до известной степени погибла в своей излишней видности; и после изобретения книгопечатания вообще никто не умел и не был в силах преодолеть Гутенберга.
Моя почти таинственная действительная уединенность смогла это. Страхов мне говорил: «Представляйте всегда читателя, и пишите, чтобы ему было совершенно ясно». Но сколько я ни усиливался представлять читателя, никогда не мог его вообразить. Ни одно читательское лицо мне не воображалось, ни один оценивающий ум не вырисовывался. И я всегда писал один, в сущности — для себя. Даже когда плутовски писал, то точно кидал в пропасть «и там поднимется хохот», где-то далеко под землей, а вокруг все-таки никого нет. «Передовые» [144] я любил писать в приемной нашей газеты: посетители, переговоры с ними членов редакции, ходня, шум — и я «По поводу последней речи в Г. Думе». Иногда — в общей зале. И раз сказал сотрудникам: «Господа, тише, я пишу черносотенную статью» (шашки, говор, смех). Смех еще усилился. И было так же глухо, как до.