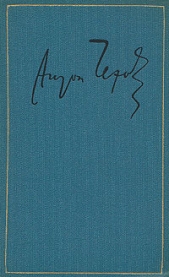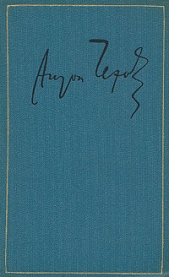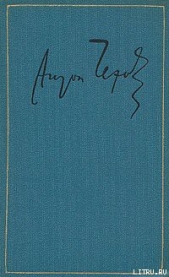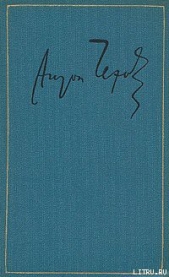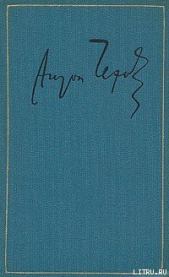Том 9. Рассказы, повести 1894-1897
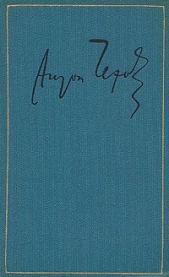
Том 9. Рассказы, повести 1894-1897 читать книгу онлайн
Полное собрание сочинений и писем Антона Павловича Чехова в тридцати томах — первое научное издание литературного наследия великого русского писателя. Оно ставит перед собой задачу дать с исчерпывающей полнотой всё, созданное Чеховым.
Рассказы и повести, вошедшие в девятый том, написаны в 1894 («Три года») и 1895–1897 годах.
В данной электронной редакции опущен раздел «Варианты».
http://ruslit.traumlibrary.net
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Но тут ты не пишешь, от чего надо спасать Европу, — сказал Лаптев.
— Это понятно само собой.
— Ничего не понятно, — сказал Лаптев и прошелся в волнении. — Не понятно, для чего это ты написал. Впрочем, это твое дело.
— Хочу издать отдельною брошюрой.
— Это твое дело.
Помолчали минуту. Федор вздохнул и сказал:
— Глубоко, бесконечно жаль, что мы с тобой разно мыслим. Ах, Алеша, Алеша, брат мой милый! Мы с тобою люди русские, православные, широкие люди; к лицу ли нам все эти немецкие и жидовские идеишки? Ведь мы с тобой не прохвосты какие-нибудь, а представители именитого купеческого рода.
— Какой там именитый род? — проговорил Лаптев, сдерживая раздражение. — Именитый род! Деда нашего помещики драли, и каждый последний чиновничишка бил его в морду. Отца драл дед, меня и тебя драл отец. Что нам с тобой дал этот твой именитый род? Какие нервы и какую кровь мы получили в наследство? Ты вот уже почти три года рассуждаешь, как дьячок, говоришь всякий вздор и вот написал — ведь это холопский бред! А я, а я? Посмотри на меня… Ни гибкости, ни смелости, ни сильной воли; я боюсь за каждый свой шаг, точно меня выпорют, я робею перед ничтожествами, идиотами, скотами, стоящими неизмеримо ниже меня умственно и нравственно; я боюсь дворников, швейцаров, городовых, жандармов, я всех боюсь, потому что я родился от затравленной матери, с детства я забит и запуган!.. Мы с тобой хорошо сделаем, если не будем иметь детей. О, если бы дал бог, нами кончился бы этот именитый купеческий род!
В кабинет вошла Юлия Сергеевна и села у стола.
— Вы о чем-то тут спорили? — сказала она. — Я не помешала?
— Нет, сестреночка, — ответил Федор, — разговор у нас принципиальный. Вот ты говоришь: такой-сякой род, — обратился он к брату, — однако же, этот род создал миллионное дело. Это чего-нибудь да стоит!
— Велика важность — миллионное дело! Человек без особенного ума, без способностей случайно становится торгашом, потом богачом, торгует изо дня в день, без всякой системы, без цели, не имея даже жадности к деньгам, торгует машинально, и деньги сами идут к нему, а не он к ним. Он всю жизнь сидит у дела и любит его потому только, что может начальствовать над приказчиками, издеваться над покупателями. Он старостой в церкви потому, что там можно начальствовать над певчими и гнуть их в дугу; он попечитель школы потому, что ему нравится сознавать, что учитель — его подчиненный и что он может разыгрывать перед ним начальство. Купец любит не торговать, а начальствовать, и ваш амбар не торговое учреждение, а застенок! Да, для такой торговли, как ваша, нужны приказчики обезличенные, обездоленные, и вы сами приготовляете себе таких, заставляя их с детства кланяться вам в ноги за кусок хлеба, и с детства вы приучаете их к мысли, что вы — их благодетели. Небось вот университетского человека ты в амбар к себе не возьмешь!
— Университетские люди для нашего дела не годятся.
— Неправда! — крикнул Лаптев. — Ложь!
— Извини, мне кажется, ты плюешь в колодезь, из которого пьешь, — сказал Федор и встал. — Наше дело тебе ненавистно, однако же ты пользуешься его доходами.
— Ага, договорились! — сказал Лаптев и засмеялся, сердито глядя на брата. — Да, не принадлежи я к вашему именитому роду, будь у меня хоть на грош воли и смелости, я давно бы швырнул от себя эти доходы и пошел бы зарабатывать себе хлеб. Но вы в своем амбаре с детства обезличили меня! Я ваш!
Федор взглянул на часы и стал торопливо прощаться. Он поцеловал руку у Юлии и вышел, но, вместо того, чтобы идти в переднюю, прошел в гостиную, потом в спальню.
— Я забыл расположение комнат, — сказал он в сильном замешательстве. — Странный дом. Не правда ли, странный дом?
Когда он надевал шубу, то был будто ошеломлен, и лицо его выражало боль. Лаптев уже не чувствовал гнева; он испугался и в то же время ему стало жаль Федора, и та теплая, хорошая любовь к брату, которая, казалось, погасла в нем в эти три года, теперь проснулась в его груди, и он почувствовал сильное желание выразить эту любовь.
— Ты, Федя, приходи завтра к нам обедать, — сказал он и погладил его по плечу. — Придешь?
— Да, да. Но дайте мне воды.
Лаптев сам побежал в столовую, взял в буфете, что первое попалось ему под руки, — это была высокая пивная кружка, — налил воды и принес брату. Федор стал жадно пить, но вдруг укусил кружку, послышался скрежет, потом рыдание. Вода полилась на шубу, на сюртук. И Лаптев, никогда раньше не видавший плачущих мужчин, в смущении и испуге стоял и не знал, что делать. Он растерянно смотрел, как Юлия и горничная сняли с Федора шубу и повели его обратно в комнаты, и сам пошел за ними, чувствуя себя виноватым.
Юлия уложила Федора и опустилась перед ним на колени.
— Это ничего, — утешала она. — Это у вас нервы…
— Голубушка, мне так тяжело! — говорил он. — Я несчастлив, несчастлив… но все время я скрывал, скрывал!
Он обнял ее за шею и прошептал ей на ухо:
— Я каждую ночь вижу сестру Нину. Она приходит и садится в кресло возле моей постели…
Когда час спустя он опять надевал в передней шубу, то уже улыбался и ему было совестно горничной. Лаптев поехал проводить его на Пятницкую.
— Ты приезжай к нам завтра обедать, — говорил он дорогой, держа его под руку, — а на Пасху поедем вместе за границу. Тебе необходимо проветриться, а то ты совсем закис.
— Да, да. Я поеду, я поеду… И сестреночку с собой возьмем.
Вернувшись домой, Лаптев застал жену в сильном нервном возбуждении. Происшествие с Федором потрясло ее, и она никак не могла успокоиться. Она не плакала, но была очень бледна и металась в постели и цепко хваталась холодными пальцами за одеяло, за подушку, за руки мужа. Глаза у нее были большие, испуганные.
— Не уходи от меня, не уходи, — говорила она мужу. — Скажи, Алеша, отчего я перестала богу молиться? Где моя вера? Ах, зачем вы при мне говорили о религии? Вы смутили меня, ты и твои друзья. Я уже не молюсь.
Он клал ей на лоб компрессы, согревал ей руки, поил ее чаем, а она жалась к нему в страхе…
К утру она утомилась и уснула, а Лаптев сидел возле и держал ее за руку. Так ему и не удалось уснуть. Целый день потом он чувствовал себя разбитым, тупым, ни о чем не думал и вяло бродил по комнатам.
Доктора сказали, что у Федора душевная болезнь. Лаптев не знал, что делается на Пятницкой, а темный амбар, в котором уже не показывались ни старик, ни Федор, производил на него впечатление склепа. Когда жена говорила ему, что ему необходимо каждый день бывать и в амбаре, и на Пятницкой, он или молчал, или же начинал с раздражением говорить о своем детстве, о том, что он не в силах простить отцу своего прошлого, что Пятницкая и амбар ему ненавистны и проч.
В одно из воскресений, утром, Юлия сама поехала на Пятницкую. Она застала старика Федора Степаныча в той самой зале, в которой когда-то, по случаю ее приезда, служили молебен. Он в своем парусинковом пиджаке, без галстука, в туфлях, сидел неподвижно в кресле и моргал слепыми глазами.
— Это я, ваша невестка, — сказала она, подходя к нему. — Я приехала проведать вас.
Он стал тяжко дышать от волнения. Она, тронутая его несчастьем, его одиночеством, поцеловала ему руку, а он ощупал ее лицо и голову и, как бы убедившись, что это она, перекрестил ее.
— Спасибо, спасибо, — сказал он. — А я вот глаза потерял и ничего не вижу… Окно чуть-чуть вижу и огонь тоже, а людей и предметы не замечаю. Да, я слепну, Федор заболел, и без хозяйского глаза теперь плохо. Если случится какой беспорядок, то взыскать некому; избалуется народ. А отчего это Федор заболел? От простуды, что ли? А я вот никогда не хворал и никогда не лечился. Никаких я докторов не знал.
И старик, по обыкновению, стал хвастать. Между тем прислуга торопливо накрывала в зале на стол и ставила закуски и бутылки с винами. Было поставлено бутылок десять, и одна из них имела вид Эйфелевой башни. Подали полное блюдо горячих пирожков, от которых пахло вареным рисом и рыбой.