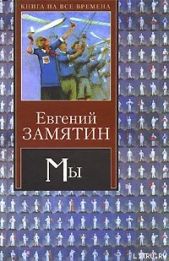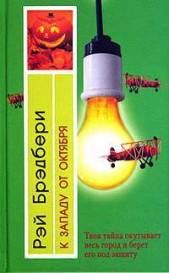Том 2. Русь

Том 2. Русь читать книгу онлайн
Во второй том Собрания сочинений Е.И. Замятина включены все прозаические произведения писателя, созданные им на родине и за рубежом после 1921 года, в том числе знаменитая антиутопия «Мы». Исторический роман «Бич Божий» впервые печатается с учетом авторских исправлений в рукописи. Впервые в России публикуются биографические очерки «Роберт Майер» и «А.П. Чехов», выходившие в Германии в 1921 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Внутри, в Тале, как живой ребенок, поворачивается сердце с такой болью, что хочется крикнуть и всю себя — что-то самое невозможное, самое трудное только, чтобы ему этот час или два…
Куковеров сине, удивленно открывает глаза — потому что вдруг слышит ее смех.
— Слушайте — ну, до чего же я глупая! Ведь я же забыла вам самое главное… Я сейчас с ним говорила — с Дордой, он говорит, что завтра… что вообще вас не… Я не помню… я торопилась — он сказал, что вас перевезут в город — он устроит, чтобы…
Глаза у Куковерова — круглые, как у ребенка — все синее, все шире.
— Но… но он мне — совсем другое — только что… Мы с ним здесь…
— Нет, нет! Потому что я просила, может быть… Я не знаю — он сказал, я же вам говорю!
Папиросу. Спичек нет — красный язык в лампе дрожит и вытягивается вверх. В голове у Куковерова, жужжа, сумасшедше несется, как в часах с лопнувшей пружинкой; выскочившие из клетки слова — друг через друга:
— Да, да, ведь мы когда-то с Дордой вместе… ему это очень… Вот это вот его папиросы — понимаете? И если… И потом мы бы с вами куда-нибудь… Это очень просто: фамилию можно… Смешно — откуда это? Фамилия была Пупынин, Пантелей — понимаете? И человек подал прошение, чтобы переменить на «Робеспьер» — Пантелей Робеспьер! Именно, именно: Пантелей Робеспьер!
Тале нужно засмеяться вместе с Куковеровым, потому что если она не засмеется… Одна пустая, страшная, без дыхания секунда, потом смех кусками, комьями — совершенно сухими, тотчас же рассыпающимися в пыль. Куковеров — опять что-то такое об этом — как они вместо с ной будут… Будут? И больше уже нет сил. Таля кричит:
— Замолчите! Не надо! Я не могу!
Тишина. Капли о камень. Куковеров на коленях, его голова у Тали в руках — вот так, обеими руками, крепко сжать эту голову и не дыша смотреть, еще, еще — чтобы запомнить его на всю жизнь.
В Куковерове навеки — до завтра — отпечатываются чуть холодные, как сирень в сумерках, девичьи губи. И когда он потом целует сквозь шелк, Таля, кружась и дрожа — дрожат и холодеют руки — всю себя, что-то самое немыслимое быстро расстегивает платье, вынимает левую грудь — так вынула бы ее для ребенка — дает Куковерову:
— Вот… хочешь так?
Капли — за тысячу верст. Горячей щекой, губами — Куковеров слышит всю ее — и ее спутанные, соскочившие слова:
— Когда он обыскивал меня — мне показалось… Я подумала, что я могла бы и это — да, могла! Я хочу, чтобы ты — ты… Я хочу, чтобы ты оставил во мне себя, чтобы… Нет-нет-нет, это совсем не потому, что я думаю, что завтра… нет! Я же говорю: он сказал мне — я же говорю! Но разве нужно, чтобы всю жизнь вместе есть и ходить гулять? Ведь самое главное, чтобы… Ну, милый!
Капли о камень, огромные в тишине. И огромно, легко, как Земля Куковеров вдруг понимает все. И понимает: да, так, это нужно; и понимает: смерти нет.
Идет к двери, прислушивается, накидывает крючок. Запоминается навеки до завтра: под крючком на дереве полукруг — это прочертил крючок, качаясь часы, годы, века. И еще: окно уже побледнело, черный крест рамы, тучи, какой-то громадный, далекий — круглый гул все ближе.
Сквозь миллионоверстные воздушные льды, кружась все неистовей, со свистом мчится звезда — чтобы сгореть, сжечь — все ближе. И там — трое последних. Освещенные новым, красным, последним светом — они, не считая, жадно пьют оставшийся воздух, пьянеют, дышат так, как здесь, на звезде дышали люди давно, тысячи кругов назад. О, один раз в жизни — не думая, без счету — телом, ртом, грудью!
Мужчина и женщина обнялись тесно: двое — одно. И та, старшая, Мать над ними, над всеми. В красное зарево неба врезан ее профиль, брови и губы крепко сжаты, она мраморна, как судьба, чуть согнуты под какой-то тяжестью плечи, стоит, ждет. И вот — пол под ногами вздымается, как живое тело, залитые красным, прорезываются трещины в тысячелетних стенах, звон стеклянных брызг — Тишина. В пустынях острые зубчатые тени опрокинутых скал. Зажженные алыми искрами ледяные глыбы стекла, под ними — как сквозь лед на дне — темные груды машин, книг, тел, три мгновенно замерзших, тесно друг к другу, трупа.
В тишине — капли о камень, от капли до капли — века, секунды. В какую-то назначенную секунду — вдруг рушатся тучи вниз, на ослепительно-белом — переплет рамы черным крестом, молнии — столбами, сверху — камни, грохот, огонь.
Из ворочающихся, как медведи, встающих на дыбы изб — выскакивают келбуйские, орловские, и все бегут куда-то, падают в горячие трещины. Земля раскрывает свои недра все шире — еще — всю себя — чтобы зачать, чтобы в багровом свете — новые, огненные существа, и потом в белом теплом тумане еще новые, цветоподобные, только тонким стеблем привязанные к новой Земле, а когда созреют эти человечьи цветы.
1923
Икс
В спектре этого рассказа основные линии — золотая, красная и лиловая, так как город полон куполов, революции и сирени. Революция и сирень — в полном цвету, откуда с известной степенью достоверности можно сделать вывод, что год 1919-й, а месяц май.
Это майское утро начинается с того, что на углу Блинной и Розы Люксембург появляется процессия — по-видимому, религиозная: восемь духовных особ, хорошо известных всему городу. Но духовные особы размахивают не кадилами, а метлами, что переносит все действия из плана религии в план революции: это — просто нетрудовой элемент, отбывающий трудовую повинность на пользу народа. Вместо молитв, золотея, вздымаются к небу облака пыли, народ на тротуарах чихает, кашляет и торопится сквозь пыль. Еще только начало десятого, служба — в десять, но сегодня почему-то все вылетели спозаранок и гудят, как пчелы перед роеньем.
В тот день (1919, 20/V) все граждане в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет, за исключением самых нераскаянных буржуев, состояли на службе, и всех от восемнадцати до пятидесяти явно ждало сегодня что-то необычайное во всевозможных УЭПО, УЗКО, УОНО. Главное, что это было «что-то», что это был икс, а природа человеческая такова, что ее влекут именно иксы (этим прекрасно пользуются в алгебре и рассказах). В данном случае икс произошел от раскаявшегося дьякона Индикоплева.
Дьякон Индикоплев, публично покаявшийся, что он в течение десяти лет обманывал народ, естественно, пользовался теперь доверием и народа и власти. Иногда случалось даже, что он ловил рыбу с товарищем Стерлиговым из УИКа так было, например, вчера вечером. Оба глядели на поплавки, на золото-красно-лиловую воду и беседовали о головлях, о вождях революции, о свекольной патоке, о сбежавшем эсере Перепечко, об акулах империализма. Здесь — совершенно некстати — дьякон заметил, конфузливо прикрывшись ладонью:
— А у вас, товарищ Стерлигов, извиняюсь… штаники сзади… не то чтобы это самое, а вроде как бы…
Товарищ Стерлигов только почесал шубу на лице:
— Ладно, до завтра доживут! А завтра, должно быть, служащим прозодежду выдавать будут — из центра бумага пришла. Только это я вам по секрету…
Когда с двумя ершами дьякон возвращался домой, он по дороге, конечно, стукнул в окно телеграфисту Алешке и сказал ему — конечно, по секрету. А телеграфист Алешка, как вам известно, поэт, он написал уже восемь фунтов стихов — вон там, в сундуке лежат. Как поэт, он не счел себя вправе хранить тайну в душе: призвание поэта — открывать душу для всех. И к утру все от восемнадцати до шестидесяти лет знали о прозодежде.
Но никто не знал, что такое прозодежда. Всем ясно было одно: прозодежда есть нечто, ведущее свою родословную от фигового листа, т. е. нечто, прикрывающее наготу Адамов и украшающее наготу Ев. А общая площадь наготы тогда была значительно больше площади фиговых листьев — настолько, что, например, телеграфист Алешка давно уже ходил на службу в кальсонах, по средством олифы, сажи и сурика превращенных в серые, с красной полоской, непромокаемые брюки.
Естественно поэтому, что для Алешки прозодежда воплощалась в брючный образ, но она же для красавицы Марфы расцветала в майскую розовую шляпу, для бывшего дьякона уплотнялась в сапоги — и так далее. Словом, прозодежда — это явно нечто, подобное протоплазме, первичной материи, из которой выросло все: и баобабы, и агнцы, и тигры, и шляпы, и эсеры, и сапоги, и пролетарии, и нераскаянные буржуи, раскаявшийся дьякон Индикоплев.