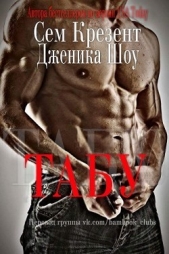Братья Карамазовы
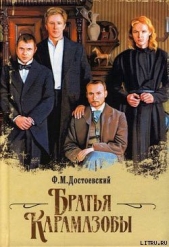
Братья Карамазовы читать книгу онлайн
Самый сложный, самый многоуровневый и неоднозначный из романов Достоевского, который критики считали то «интеллектуальным детективом», то «ранним постмодернизмом», то – «лучшим из произведений о загадочной русской душе».
Роман, легший в основу десятков экранизаций – от предельно точных до самых отвлеченных, – но не утративший своей духовной силы…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тут Ипполит Кириллович приступил к подробному описанию всех стараний Мити добыть себе деньги, чтоб избежать преступления. Он описал его похождения у Самсонова, путешествие к Лягавому – все по документам. «Измученный, осмеянный, голодный, продавший часы на это путешествие (имея, однако, на себе полторы тысячи рублей – и будто, о, будто!), мучаясь ревностью по оставленному в городе предмету любви, подозревая, что она без него уйдет к Федору Павловичу, он возвращается наконец в город. Слава Богу! Она у Федора Павловича не была. Он же сам ее и провожает к ее покровителю Самсонову. (Странное дело, к Самсонову мы не ревнивы, и это весьма характерная психологическая особенность в этом деле!) Затем стремится на наблюдательный пост „на задах“ и там – и там узнает, что Смердяков в падучей, что другой слуга болен, – поле чисто, а „знаки“ в руках его – какой соблазн! Тем не менее он все-таки сопротивляется; он идет к высокоуважаемой всеми нами временной здешней жительнице госпоже Хохлаковой. Давно уже сострадающая его судьбе, эта дама предлагает ему благоразумнейший из советов: бросить весь этот кутеж, эту безобразную любовь, эти праздношатания по трактирам, бесплодную трату молодых сил и отправиться в Сибирь на золотые прииски: „Там исход вашим бушующим силам, вашему романическому характеру, жаждущему приключений“. Описав исход беседы и тот момент, когда подсудимый вдруг получил известие о том, что Грушенька совсем не была у Самсонова, описав мгновенное исступление несчастного, измученного нервами ревнивого человека при мысли, что она именно обманула его и теперь у него, Федора Павловича, Ипполит Кириллович заключил, обращая внимание на роковое значение случая: „успей ему сказать служанка, что возлюбленная его в Мокром, с „прежним“ и „бесспорным“ – ничего бы и не было. Но она опешила от страха, заклялась-забожилась, и если подсудимый не убил ее тут же, то это потому, что сломя голову пустился за своей изменницей. Но заметьте: как ни был он вне себя, а захватил-таки с собою медный пестик. Зачем именно пестик, зачем не другое какое оружие? Но, если мы уже целый месяц созерцали эту картину и к ней приготовлялись, то чуть мелькнуло нам что-то в виде оружия, мы и схватываем его как оружие. А о том, что какой-нибудь предмет в этом роде может послужить оружием, – это мы уже целый месяц представляли себе. Потому-то так мгновенно и бесспорно и признали его за оружие! А потому все же не бессознательно, все же не невольно схватил он этот роковой пестик. И вот он в отцовском саду – поле чисто, свидетелей нет, глубокая ночь, мрак и ревность. Подозрение, что она здесь, с ним, с соперником его, в его объятиях и, может быть, смеется над ним в эту минуту, – захватывает ему дух. Да и не подозрение только – какие уж теперь подозрения, обман явен, очевиден: она тут, вот в этой комнате, откуда свет, она у него там, за ширмами, – и вот несчастный подкрадывается к окну, почтительно в него заглядывает, благонравно смиряется и благоразумно уходит, поскорее вон от беды, чтобы чего не произошло, опасного и безнравственного, – и нас в этом хотят уверить, нас, знающих характер подсудимого, понимающих, в каком он был состоянии духа, в состоянии, нам известном по фактам, а главное, обладая знаками, которыми тотчас же мог отпереть дом и войти!“ Здесь по поводу „знаков“ Ипполит Кириллович оставил на время свое обвинение и нашел необходимым распространиться о Смердякове, с тем чтоб уж совершенно исчерпать весь этот вводный эпизод о подозрении Смердякова в убийстве и покончить с этою мыслию раз навсегда. Сделал он это весьма обстоятельно, и все поняли, что, несмотря на все выказываемое им презрение к этому предположению, он все-таки считал его весьма важным.
VIII
Трактат о Смердякове
«Во-первых, откуда взялась возможность подобного подозрения? – начал с этого вопроса Ипполит Кириллович. – Первый крикнувший, что убил Смердяков, был сам подсудимый в минуту своего ареста, и, однако, не представивший с самого первого крика своего и до самой сей минуты суда ни единого факта в подтверждение своего обвинения – и не только факта, но даже сколько-нибудь сообразного с человеческим смыслом намека на какой-нибудь факт. Затем подтверждают обвинение это только три лица: оба брата подсудимого и госпожа Светлова. Но старший брат подсудимого объявил свое подозрение только сегодня, в болезни, в припадке бесспорного умоисступления и горячки, а прежде, во все два месяца, как нам положительно это известно, совершенно разделял убеждение о виновности своего брата, даже не искал возражать против этой идеи. Но мы этим займемся особенно еще потом. Затем младший брат подсудимого нам объявляет давеча сам, что фактов в подтверждение своей мысли о виновности Смердякова не имеет никаких, ни малейших, а заключает так лишь со слов самого подсудимого и „по выражению его лица“ – да, это колоссальное доказательство было дважды произнесено давеча его братом. Госпожа же Светлова выразилась даже, может быть, и еще колоссальнее: „Что подсудимый вам скажет, тому и верьте, не таков человек, чтобы солгал“. Вот все фактические доказательства на Смердякова от этих трех лиц, слишком заинтересованных в судьбе подсудимого. И между тем обвинение на Смердякова ходило и держалось, и держится – можно этому поверить, можно это представить?»
Тут Ипполит Кириллович нашел нужным слегка очертить характер покойного Смердякова, «прекратившего жизнь свою в припадке болезненного умоисступления и помешательства». Он представил его человеком слабоумным, с зачатком некоторого смутного образования, сбитого с толку философскими идеями не под силу его уму и испугавшегося иных современных учений о долге и обязанности, широко преподанных ему практически – бесшабашною жизнию покойного его барина, а может быть и отца, Федора Павловича, а теоретически – разными странными философскими разговорами с старшим сыном барина, Иваном Федоровичем, охотно позволявшим себе это развлечение – вероятно, от скуки или от потребности насмешки, не нашедшей лучшего приложения. Он мне сам рассказывал о своем душевном состоянии в последние дни своего пребывания в доме своего барина, – пояснил Ипполит Кириллович, – но свидетельствуют о том же и другие: сам подсудимый, брат его и даже слуга Григорий, то есть все те, которые должны были знать его весьма близко. Кроме того, удрученный падучею болезнию, Смердяков был «труслив как курица». «Он падал мне в ноги и целовал мои ноги, – сообщал нам сам подсудимый в ту минуту, когда еще не сознавал некоторой для себя невыгоды в таком сообщении, – это курица в падучей болезни», – выразился он про него своим характерным языком. И вот его-то подсудимый (о чем и сам свидетельствует) выбирает в свои доверенные и запугивает настолько, что тот соглашается наконец служить ему шпионом и переносчиком. В этом качестве домашнего соглядатая он изменяет своему барину, сообщает подсудимому и о существовании пакета с деньгами, и про знаки, по которым можно проникнуть к барину, – да и как бы он мог не сообщить! «Убьют-с, видел прямо, что убьют меня-с», – говорил он на следствии, трясясь и трепеща даже перед нами, несмотря на то, что запугавший его мучитель был уже сам тогда под арестом и не мог уже прийти наказать его. «Подозревали меня всякую минуту-с, сам в страхе и трепете, чтобы только их гнев утолить, спешил сообщать им всякую тайну-с, чтобы тем самым невинность мою перед ними видеть могли-с и живого на покаяние отпустили-с». Вот собственные слова его, я их записал и запомнил: «Как закричит, бывало, на меня, я так на коленки перед ними и паду». Будучи высокочестным от природы своей молодым человеком и войдя тем в доверенность своего барина, отличившего в нем эту честность, когда тот возвратил ему потерянные им деньги, несчастный Смердяков, надо думать, страшно мучился раскаянием в измене своему барину, которого любил как своего благодетеля. Сильно страдающие от падучей болезни, по свидетельству глубочайших психиатров, всегда наклонны к беспрерывному и, конечно, болезненному самообвинению. Они мучаются от своей «виновности» в чем-то и перед кем-то, мучаются угрызениями совести, часто, даже безо всякого основания, преувеличивают и даже сами выдумывают на себя разные вины и преступления. И вот подобный-то субъект становится действительно виновным и преступным от страху и от запугивания. Кроме того, он сильно предчувствовал, что из слагающихся на глазах его обстоятельств может выйти нечто недоброе. Когда старший сын Федора Павловича, Иван Федорович, перед самою катастрофой уезжал в Москву, Смердяков умолял его остаться, не смея, однако же, по трусливому обычаю своему, высказать ему все опасения свои в виде ясном и категорическом. Он лишь удовольствовался намеками, но намеков не поняли. Надо заметить, что в Иване Федоровиче он видел как бы свою защиту, как бы гарантию в том, что пока тот дома, то не случится беды. Вспомните выражение в «пьяном» письме Дмитрия Карамазова: «Убью старика, если только уедет Иван»; стало быть, присутствие Ивана Федоровича казалось всем как бы гарантией тишины и порядка в доме. И вот он-то и уезжает, а Смердяков тотчас же, почти через час по отъезде молодого барина, упадает в падучей болезни. Но это совершенно понятно. Здесь надо упомянуть, что, удрученный страхами и своего рода отчаянием, Смердяков в последние дни особенно ощущал в себе возможность приближения припадков падучей, которая и прежде всегда случалась с ним в минуты нравственного напряжения и потрясения. День и час этих припадков угадать, конечно, нельзя, но расположение к припадку каждый эпилептик ощутить в себе может заранее. Так говорит медицина. И вот только что съезжает со двора Иван Федорович, как Смердяков, под впечатлением своего, так сказать, сиротства и своей беззащитности, идет за домашним делом в погреб, спускается вниз по лестнице и думает: «Будет или не будет припадок, а что, коль сейчас придет?» И вот именно от этого настроения, от этой мнительности, от этих вопросов и схватывает его горловая спазма, всегда предшествующая падучей, и он летит стремглав без сознания на дно погреба. И вот, в этой самой естественной случайности ухищряются видеть какое-то подозрение, какое-то указание, какой-то намек на то, что он нарочно притворился больным! Но если нарочно, то является тотчас вопрос: для чего же? Из какого расчета, с какою же целью? Я уже не говорю про медицину; наука, дескать, лжет, наука ошибается, доктора не сумели отличить истины от притворства, – пусть, пусть, но ответьте же мне, однако, на вопрос: для чего ему было притворяться? Не для того ли, чтобы, замыслив убийство, обратить на себя случившимся припадком заранее и поскорее внимание в доме? Видите ли, господа присяжные заседатели, в доме Федора Павловича в ночь преступления было и перебывало пять человек: во-первых, сам Федор Павлович, но ведь не он же убил себя, это ясно; во-вторых, слуга его Григорий, но ведь того самого чуть не убили, в-третьих, жена Григория, служанка Марфа Игнатьевна, но представить ее убийцей своего барина просто стыдно. Остаются, стало быть, на виду два человека: подсудимый и Смердяков. Но так как подсудимый уверяет, что убил не он, то, стало быть, должен был убить Смердяков, другого выхода нет, ибо никого другого нельзя найти, никакого другого убийцы не подберешь. Вот, вот, стало быть, откуда произошло это «хитрое» и колоссальное обвинение на несчастного, вчера покончившего с собой идиота! Именно только по тому одному, что другого некого подобрать! Будь хоть тень, хоть подозрение на кого другого, на какое-нибудь шестое лицо, то я убежден, что даже сам подсудимый постыдился бы показать тогда на Смердякова, а показал бы на это шестое лицо, ибо обвинять Смердякова в этом убийстве есть совершенный абсурд.