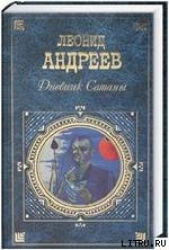Сашка Жегулёв

Сашка Жегулёв читать книгу онлайн
Леонид Андреев (1871–1919) — писатель удивительно тонкой и острой интуиции, оставивший неповторимый след в русской литературе. Изображение конкретных картин реально-бытовой жизни он смело совмещает с символическим звучанием; экспрессивно, порой через фантастические образы, но удивительно точно и глубоко Андреев проникает в тайное тайных человеческой психики.
«Неомифологический» роман «Сашка Жегулев», особым образом сочетавший в себе традиционный иноваторский стиль и отражающий дух революционной эпохи 1905 года, повествует о судьбе русского террориста.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перед глазами двигалась черная с серебром треугольная спина священника, и было почему-то приятно, что она такая необыкновенная, и на мгновение открывался ясный смысл в том, что всегда было непонятно: в синих полосках ладана, в странности одежды, даже в том, что какой-то совсем незначительный человек с козлиной реденькой бородкой шепчет: «Раздавайте!», а сам, все так же на ходу, уверенно и громко отвечает священнику:
— Господу помолимся! Господу помолимся!
Саша думает, покорно принимая свечу: «Только сейчас он сидел дома и пил чай с женой, и борода у него козлиная, а теперь он необыкновенный, имеет власть и знание, и это понимает священник и ждет ответа — какая это правда!»
И все правда, и все делается именно так, как нужно. Открыто окно в маленький заведенский садик, где гуляют больные, и пахнет из окна тополем и распускающейся березкой — так и нужно, чтобы было открыто и чтобы пахло. И чтобы весна была, апрель, тоже нужно. Увидел в синем дыму лицо молящейся матери и сперва удивился: «Как она сюда попала?», — забыл, что всю дорогу шел с нею рядом, но сейчас же понял, что и это нужно, долго рассматривал ее строгое, как бы углубленное лицо и также одобрил: «Хорошая мама: скоро она так же будет молиться надо мною!» Потом все так же покорно Саша перевел глаза на то, что всего более занимало его и все более открывало тайн: на две желтые, мертвые, кем-то заботливо сложенные руки. И уверенно подумал, что и он так же будет лежать и так же будут сложены руки, и от тихой жалости к себе защипали в носу слезы: так нужно.
Что-то сдвинулось в мозгу: на несколько минут словно затмилось сознание, и это уже не Тимохин лежит и не над ним служат, а лежит он, Саша, и эти руки его; так очевидно и так страшно было замещение одного другим, что Саша зашевелил пальцами и подумал, холодея: «Скорее, скорее надо убедиться, что это мои руки и шевелятся». И так же внезапно успокоился и задумался о Тимохине и в одно мгновение необыкновенно быстрыми мыслями понял всю его жизнь.
Какое-то волнение пробежало среди молящихся; послышался сдержанный шепот:
— Сумасшедший! Прогоните сумасшедшего!
Как и все, кто еще не видел, Саша быстро повернулся к раскрытому окну и вздрогнул: повисши руками на подоконнике, в часовенку заглядывал один из гулявших в садике сумасшедших, стриженый, темный, без шапки, — темная и жуткая голова. Он торопливо улыбался, стараясь поскорее выразить какое-то свое отношение, а глаза с сверкающим белком бегали по лицам и горели ненасытимым отчаянным любопытством. Часто крестясь, поспешно прошел Добровольский, и через минуту голова скрылась, а через несколько минут кончилась и панихида.
Но нерешительно медлил священник, то ли собираясь разоблачаться, то ли сделать что другое; по-видимому, ему хотелось сказать гимназистам слово, но не знал, насколько это будет прилично. Наконец обернулся и все так же нерешительно обвел присутствующих старческими, заплаканными, очень простыми, добрыми стариковскими глазами. Саша, привыкший видеть только своего гимназического о. Алексея и как-то забывший о существовании других священников, удивился, что это не о. Алексей, и с дружелюбным недоумением разглядывал незнакомое, растроганное, бледное стариковской бледностью лицо и красные от слез веки. И вдруг смутился, почувствовав в глазах старика не только страдание, но и робость, даже испуг. Были смущены и другие.
«Да скоро ли он?» — думал Погодин, мучась. Слегка расставив ноги в мягких, без каблуков, сапогах, — точно не смел стать спокойнее и тверже, — священник нерешительно касался рукою наперсного креста; вдруг заморгал часто выцветшими глазами и сказал добрым, дрожащим от доброты и желания убедить голосом:
— Господа гимназисты! Как же это можно? А как же родители-то ваши, господа гимназисты? Как же это так, да разве это можно? Ах, господа гимназисты, господа гимназисты!
Он еще что-то хотел прибавить, но не нашел слова, которое можно было бы добавить к тому огромному, что сказал, и только доверчиво и ласково улыбнулся. Некоторые также улыбнулись ему в ответ; и, выходя, ласково кланялись ему, вдруг сделав из поклона приятное для всех и обязательное правило. И он кланялся каждому в отдельности и каждого провожал добрыми, внимательными, заплаканными глазами; и стоял все в той же нерешительной позе и рукою часто касался наперсного креста.
А через несколько минут уже шли по садику, пугливо сторонясь гуляющих сумасшедших, и Тимохин со своим вздутым лицом и желтыми руками остался один. Дорогой Штемберг сердито говорил Саше:
— Этот Добровольский! Отдал его записку в младшие классы, чтобы списывали. Он мог сам сделать копию и вообще не имел на это права, так как записка принадлежит всему нашему классу. И что там списывать — так можно запомнить, если не дурак. Такое свинство!
Саша вспомнил эту коротенькую предсмертную записку:
«Бороться против зла нет сил, а подлецом жить не хочу. Прощайте, милорды, приходите на панихиду». Было что-то тимохинское, слегка шутовское в этой ненужной добавке: «приходите на панихиду», и нужно было вспомнить кисею, желтые мертвые руки, заплаканного священника, чтобы поверить в ужас происшедшего и снова понять.
Домой пошел только Штемберг, а остальные отправились на обычное место, на Банную гору, и долго сидели там, утомленные бессонной ночью, зевающие, с серыми, внезапно похудевшими лицами. Черный буксирный пароходик волок пустую, высоко поднявшуюся над водой баржу, и, казалось, никогда не дойти ему до заворота: как ни взглянешь, а он все на месте.
— Славный поп! — сказал кто-то из гимназистов и тихо улыбнулся.
Ему не ответили, но та же тихая и ласковая улыбка пробежала и по всем молодым, утомленным лицам.
15. На распутье
К четвергу Саша действительно достал деньги: пятьсот рублей за тысячу, а на воскресенье ночью был назначен уход — приходился день на второе мая.
— А не лучше ли днем уйти? — усомнился Колесников. — Ночью, того-этого, еще хватятся.
— Нет. Если я уйду днем, мать узнает ночью… пусть лучше утром узнает, тогда народ. Я в окно уйду, никто не услышит.
— Сестре письмо оставь.
Саша промолчал и с неудовольствием подумал: «Какой нетактичный, не понимает, что об этом не надо говорить и что я сам все знаю». Вообще, в эти последние дни, проведенные дома, он был крайне холоден с Колесниковым и ни разу прямо не взглянул на него, как-то слишком даже гордо обособился в своем горе и думах. И Колесников, не находивший себе места от бурного волнения и безысходных мыслей об Елене Петровне, уже со злобой поглядывал на его спокойно-замкнутое лицо и белые, спокойно положенные на колени руки: «Какой же ты, братец, гордый, недаром генеральский сынок!» Но прямо высказаться не смел и даже, наоборот, относился с особой предупредительностью и, чувствуя ее, еще больше возмущался Сашей и собой.
Что-то путаное появилось в его мыслях, поступках и даже желаниях, и насколько тверды были последние Сашины шаги, настолько у него все колебалось и прыгало лихорадочно. То без толку хохотал и сыпал «того-этого», то мрачно супился и свирепо косил своим круглым, лошадиным глазом; по нескольку раз в день посылал Саше записки и вызывал его за каким-нибудь вздорным делом, и уже не только Елене Петровне, а и прислуге становились подозрительны его посланцы — оборванные городские мальчишки, вороватые и юркие, как мышата. Раз, блаженно улыбаясь, пошел к Саше в новых сапогах, чтобы показаться, но на полдороге плюнул и повернул назад: «Еще подумает, обрадовался деньгам, — о, чтоб черт всех вас побрал!» Перестал спать по ночам. А когда пробовал задуматься о дальнейшем или твердо установить смысл ухода, то оказывалось, что все прежние мысли забыты, остались какие-то кончики, обглоданные селедочные хвостики; и начиналась такая дикая неразбериха, что хоть в сумасшедший дом. Службу бросил и, рискуя подвести глубоко запрятанного Андрея Ивановича, матросика, почти каждый день шатался к нему.
— Беспокоит меня Погодин, — говорил он солидно, — не знаю, как и быть, того-этого.