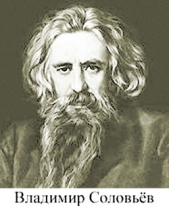Три портрета - Шемякин, Довлатов, Бродский

Три портрета - Шемякин, Довлатов, Бродский читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- Иосиф вызовет вас на дуэль.
Странно: мне самому рецензия казалась комплиментарной - я был сдержан в критике и неумерен в похвалах. Однако к тому времени И.Б. стал неприкасаемым, чувствовал вокруг себя сияние и был, как жена Цезаря, вне подозрений. Никакой критики, а тем более панибратства. Когда в 1990 году, издавая "Роман с эпиграфами", я спросил у него разрешения на публикацию нам с Леной посвященного стихотворения, услышал от него "Валяйте!", хотя прежнего энтузиазма по отношению к моему роману я не почувствовал. Тот же Довлатов, прочтя в "Новом русском слове" пару глав из "Романа с эпиграфами", сказал, что И.Б. дан в них "восторженно, но непочтительно". Может и И.Б. уже так считал: от сахарного образа до непочтительного? А как он отнесся к моему юбилейному адресу, опубликованному к его 50-летию? Дошло до того, что в одной мемуарной публикации мне выправили "Осю" на "Иосифа", хотя иначе, как Осей, никогда его не называл (тогда как Довлатов - Иосифом). Не так ли полсотни лет назад профессор поправлял на экзамене зарвавшегося студента: "Какой он вам товарищ!" - про другого Иосифа, в честь которого И.Б. и был назван.
Было два Бродских. Один - который жил в Питере плюс первые годы эмиграции: загнанный зверь и великий поэт. Другой - его однофамилец: университетский профессор и общественный деятель. За блеском Нобелевской премии проглядели его жизненную и поэтическую трагедию: комплексы сердечника, изгнанника, непрозаика. Куда дальше, если даже близкие по Питеру знакомцы вспоминают по преимуществу встречи с И.Б. в Нью-Йорке или Венеции: Нобелевский лауреат затмил, заслонил приятеля их юности. Два периода в его жизни: интенсивно творческий питерский и американо-международный карьерный. Его поздние стихи - тень прежних, без прежнего напряга, на одной технике, с редкими взлетами. Помню один с ним спор вскоре после моего приезда в Нью-Йорк: как писать - стоячим или нестоячим. Теперь он настаивал на последнем, хотя его лучшие стихи сработаны именно стоячим, на пределе страсти, отчаяния и одиночества. "Роман с эпиграфами" написан об одном Бродском, а сейчас я говорю о другом.
Почему, сочинив сотни страниц про И.Б. - роман, рецензии, эссе - я извлекаю теперь из моего американского дневника на свет Божий заметы, так или иначе, косвенно или напрямую с ним связанные?
Для равновеса?
Для эквилибриума с написанным в России "Романом с эпиграфами"?
По контрасту с нынешней мифологизацией?
Да мало ли.
Одно знаю: им тесно и темно в утробе моего компьютера.
Может, причесать и организовать эти записи, выстроить в очередное эссе? Нет, пусть будут такими, как возникли. Даже те, что потом проросли в статьи. Сколько можно насильничать над собой! Пусть отправляются в мир какие есть укромные, черновые, необязательные, безответственные, бесстыжие, непристойные.
Мысли вразброд.
*
Столкнулись с И.Б. в Колумбийском. Рассказал ему о поездке в Мэн и встрече с Джейн К. из Бодуин колледжа, где мы с Леной прочли по лекции. Он с ней знаком еще с питерских времен, но в Америке охладел. Понятно: там она редкая американка, а здесь - американцы сплошь.
- Ребеночка ее видели? Не мой.
Шуточка довольно циничная. Джейн, наполовину индейских кровей и очень христианских воззрений, усыновила из жалости мексиканского глухонемого дебила, невыносимого в общежитии, чем зачеркнула и без того слабые матримониальные надежды и теперь всех сплошь мужиков рассматривает исключительно с точки зрения семейных либо - хотя бы - ебальных возможностей. Рассказывала, как И.Б. ей прямо сказал, что после сердечной операции у него не стоит. Скорее всего отговорка - свою американскую харизму Джейн растеряла, а скучна, как степь. Чтобы на нее встал, нужно слишком много воображения, как сказал бы Платон - "ложного воображения".
А мужскую свою прыть И.Б. утратил и стал мизогинистом еще в Питере, сочинив "Красавице платье задрав, видишь то, что искал, а не новые дивные дивы". Импотенция - это когда раздвинутые ноги женщины не вызывают ни удивления, ни восторга, ни ассоциаций. Без удивления нет желания: "Я разлюбил свои желанья, я пережил свои мечты..." Импотенция - это равнодушие.
Еще у Джейн хорош рассказ из раннего периода жизни И.Б. в Америке. Как на какой-то вечеринке звездило юное дарование из негров, и обиженный И.Б. вдруг исчез. Джейн вышла в примыкающий к дому садик, ночь, звезды, И.Б. стоит, обнявшившись с деревом, и жалуется дереву на одиночество и непризнание. Быть вторым для него невыносимо. Даже измену М.Б. он переживал больше как честолюбец, чем как любовник: как предпочтение ему другого.
Я сказал, что мы с Леной получили грант в Куинс колледже, и назвал несколько тамошних имен. На Берте Тодде он поморщился:
- Это который с Евтухом?
(Женя обиделся, что в "Романе с эпиграфами" я называю его, с подачи И.Б., Евтухом, но Ося подобным образом искажал имена всех кого только мог: Солж-Солженицын, Барыш-Барышников, Борух-Слуцкий, Маяк-Маяковский и проч.)
Берт Тодд рассказывал мне, как пытался их помирить, Женю и Осю. В "Романе с эпиграфами" я описал обиду И.Б. на Евтушенко за то, что тот будто бы способствовал его высылке из России, и ответную обиду Жени на И.Б. за то, что тот будто бы сорвал ему американскую гастроль. Что достоверно: Ося вышел из Американской Академии в знак протеста, что в нее в иностранным членом приняли Евтушенко. И вот добрый Берт свел их в гостиничном номере, а сам спустился в ресторан. Выяснив отношения, пииты явились через час, подняли тост друг за друга, Ося обещал зла против Жени не держать. Недели через две Берт встречает общего знакомого, заходит речь про И.Б., и тот рассказывает, как в какой-то компании И.Б. поливал Евтушенко. Берт заверяет приятеля, что это уже в прошлом, теперь все будет иначе, он их помирил. "Когда?" Сверяют даты - выясняется, что И.Б. поливал Евтуха уже после примирения. Наивный Берт потрясен:
- Поэт хороший, а человек - нет.
Про Евтушенко можно сказать наоборот.
А кто из крупных поэтов хороший человек? Железная Ахматова с патологическим нематеринством (по отношению к сидевшему Льву Гумилеву)? Предавший Мандельштама в разговоре со Сталиным Пастернак? Мандельштам, заложивший на допросах тех, кто читал его антисталинский стих? Преступный Фет, на чьей совести брошенная им и покончившая с собой бесприданница? "Не верь, не верь поэту, дева", - обращался самый по поведению непоэт Тютчев к своей сестре, которую охмурял Гейне. А характеристика Заболоцкого Дэзиком Самойловым:
...И то, что он мучит близких,
А нежность дарует стихам.
Помню, уже здесь, в Нью-Йорке, в связи с одной историей, упрекнул И.Б. в недостатке чисто человеческой отзывчивости, на что он усмехнулся: "Не вы первый мне это говорите". Про Фриду Вигдорову. которая надорвалась, защищая его, и рано умерла, отзывался пренебрежительно: "Умереть, спасая поэта, достойная смерть". Неоднократно повторял, что недостаток эгоизма есть недостаток таланта.
По ту сторону добра и зла?
Плохой хороший человек?
А не есть ли тот, кто мыслит, в отличие от нас, стихами, некая патология, в том числе в моральном смысле? И чем талантливее поэт, тем ненадежнее человек? Степень аморализма как показатель гения?
Куда меня занесло...
Дал ему номер моего телефона. Он заметил то, на что я не обратил внимания:
- Легко запомнить: две главные даты советской истории.
В самом деле: ...-3717.
*
Еще одна встреча с И.Б. в Колумбийском, где он преподает, а мы с Леной теперь visiting scholars, то есть ничего не делаем, но зарплату получаем. Разговор глухонемых: он говорил об английской поэзии, которую я знаю почти исключительно по переводам, а я - о современой русской литературе, которую он не знает и знать не желает. "Искандер? Петрушевская? Вампилов? Ерофеев?" - переспрашивал он, делая вид, что слышит эти имена впервые. Застряли на Слуцком, которого оба любим. Я прочел пару его неопубликованных стихов, которые Ося не знал. "Еще!" - потребовал он, но из других я помнил только строчки. Рассказал про мою последнюю встречу с Борисом Абрамовичем - как тот раскрыл лежавший у меня на письменном столе ньюйоркский сб. И.Б. "Остановка в пустыне" и тут же напал на нелестный о себе отзыв в предисловии Наймана. Ося огорчился, обозвал Наймана "подонком" и сообщил, что тот был последним любовником Ахматовой. Я было усомнился.