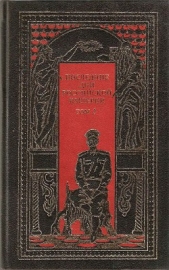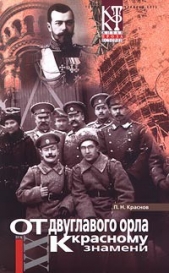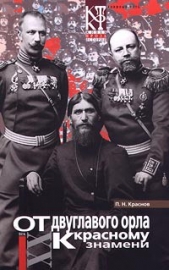От Двуглавого Орла к красному знамени. Кн. 1

От Двуглавого Орла к красному знамени. Кн. 1 читать книгу онлайн
Краснов Петр Николаевич (1869–1947), профессиональный военный, прозаик, историк. За границей Краснов опубликовал много рассказов, мемуаров и историко-публицистических произведений.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Михайлов, — крикнул Харченко, — кончайте занятия.
Михайлов собрал взвод, назначил людей отнести станки и винтовки и вызвал Коржикова запевать и идти с песнями домой.
Солдаты запели песню. Песня была новая. Она звучала придуманно и не было в ней русского широкого размаха ни в словах, ни в напеве. Плаксиво-грустно говорилось о покинутой семье, прощались с домом, шли не разить врага и побеждать его, шли умирать. Шаг под нее выходил размеренный, медленный и короткий. От этой песни с души рвало, по выражению Михайлова, но переменить ее он не мог. Ее пели везде. Ее придумали и принесли вот эти самые прапорщики, которых не любил и не уважал Михайлов. «Побежишь после такой песни, — выговаривал он как-то Коржикову, — разве это солдатская песня? Ни Царя, ни отечества в ней нету. Ноги не слышно. Песня должна быть такая, чтобы тебя за душу хватала и вперед бросала, а то что, слезы одне, да «прощай, прощай!..». Ты бы спел про «песни русские, живые молодецкие, золотые удалые, не немецкие».
— Я таких песен, господин взводный, не знаю. Пойте тогда сами, — говорил Коржиков, принимая почтительную позу перед Михайловым и нагло глядя ему в глаза.
«Пойте сами», — вот в этом-то и загвоздка была, что и Михайлов, и его помощники, кадровые солдаты, были не певуны и насчет слов знали мало. Толкнулись к прапорщикам, но и те в этом деле ничего не понимали.
— Ну, погодите вы, — идя за взводом, с тоскою думал Михайлов, — погодите вы, ужо я вас на позиции!
Но при мысли о позиции тоска еще сильнее сжимала его сердце. «А кто выучит там, — думал он с горечью. — Ротного, капитана Себрякова, еще в начале войны убили; старшего субалтерна поручика Синеокова, ух, душевный парень был, — пятью пулями в завислинском походе уложило, только после пятой и упал, а то все шел впереди роты; младшего субалтерна подпоручика Фонштейна в первом же бою, как приехал из училища, убили. Да и кто из старых господ офицеров остался — никого в полку нет. Все новое, молодое, неумелое. Подойти к солдату не умеют. Это разве модель, чтобы солдат волосы, как девка, челкой запускал? А Коржиков носит. Прапорщик Кноп ему разрешил. И кто такой Кноп? Не то немец, не то жид. Может, и правда жид, а что скубент, так и не скрывает этого. Господи, Твоя воля — полтора часа поучились и уже размокли под воротами стоючи. И кто их направит! Фельдфебеля Сидора Петровича убили, обоих сверхсрочных тяжелым снарядом пришибло, — продолжал тяжкие думы Михайлов, — разве теперь это гвардейский полк? Срам один! Солдаты в обмотках — все одно как австриец рваный!.. А мы-то пели: «Русский Царь живет богато, войско водит в сапогах, ваша ж рать есть оборванцы, ходит вовсе без чувяк»… Гвардия! — Михайлов презрительно плюнул, — одно имя осталось! Какая гвардия, когда ни Себрякова, ни Синеокова, ни Фонштейна, ни Сидора Петровича, никого из старых солдат нет?! Эти разве гвардия?!»
— Иди в ногу, чертов пес! — крикнул Михайлов в безсильной злобе и толкнул заднего солдата так, что тот пошатнулся.
— Михайлов, — голосом классного наставника окликнул его Кноп с тротуара, — попрошу вас не драться. Оставьте ваши полицейские привычки.
Михайлов те два года, что был в запасе, служил в петроградской полиции, и прежние господа одобряли это, говорили ему, что хорошо, что он не оставил службы и не распустился, а тут — на поди!..
По приходе в казарму Харченко и Кноп пришли в канцелярию и вызвали Михайлова к себе на совет. Оба никак не могли научиться говорить Михайлову ты. На Харченко действовала внушительная фигура унтер-офицера и его крест, Кноп говорил вы отчасти по убеждению, что нельзя никому говорить ты, отчасти из презрения к Михайлову, как бывшему городовому. Михайлова же это холодное вы оскорбляло.
— Михайлов, — начал Харченко, — мне совсем не нравится, как вы ведете занятия во дворе. Скажите по совести, разве это вы видали на войне?
Михайлов молчал, тупо глядя на юное, без усов и бороды, лицо прапорщика и заставляя себя видеть в нем офицера и прямого начальника, а не гимназиста, делающего скандал на улице.
— Нет, вы скажите, Михайлов, — вмешался, визгливо обрываясь на высоких нотах, Кноп, — вы скажите: отдание чести с остановкой во фронт, а? Это в область преданий должно отойти. Это николаевщина! Или ваши манеры при обращении к солдату. Теперь, Михайлов, солдат образованный, в нашем взводе шесть человек с высшим образованием, а вы ругаетесь.
— Оставьте, Борис Матвеевич, — сказал Харченко. — Вы мне скажите, Михайлов, что вы делали на войне?
— Стреляли… Кололи, били прикладом, окапывались.
— Значит, что нужно солдату, чтобы уметь воевать? — мягко спросил Харченко.
— Первее всего солдат должон понимать дисциплину, — мрачно сказал Михайлов.
— Ну, это хорошо. Не это главное, а по отношению к неприятелю, что должен делать солдат?
— Потому как без дисциплины войско становится, как орда, занимается грабежом, бежит от врага, — продолжал говорить Михайлов.
— Все это ладно, но вот вы сказали, что надобно, чтобы окапываться, стрелять, колоть штыком, — вкрадчиво сказал Кноп, — вот этому и надо учить.
— Так точно, — еще мрачнее проговорил Михайлов.
— Ну вот, ну вот… Сами понимаете. Вот и учить этому окапыванию, стрельбе, колоть, ну, словом, военному искусству, а не шагистике, — торжественно сказал Кноп.
— Ваше благородие, — с мольбою в голосе, обращаясь к Харченко, сказал Михайлов, — ну как же я учить буду окапываться на торцовой мостовой и без лопат, ну как же стрелять или колоть, ежели одна винтовка на весь взвод… Я хочу, чтобы дисциплину, а они даже остричь солдата по форме не дозволяют. Ваше благородие, что же это! Ведь на войну готовим!
Харченко был смущен и молчал.
— Хорошо, хорошо, Михайлов, — сказал он, — я поговорю об этом с командиром батальона.
Он уже и не рад был, что затеял этот разговор, но его подбил на это Кноп.
— Чем теперь заниматься прикажете? — спросил Михайлов.
— А что там по расписанию?
— Гимнастика на снарядах и сокольская.
— Ну вот и займитесь.
— Так что, ваше благородие, снаряды поставить негде.
— Ну, как же, Михайлов… Ну тогда…
— Может быть, дозволите заняться словесностью, уставы подтвердить.
— Ну хорошо… Да…
В двери канцелярии просунулся молодой человек, красивый, бритый, с прической на пробор и большим клоком волос, выпущенным на лоб, в солдатской собственной хорошо сшитой в сборку суконной рубахе и шароварах, шитых у хорошего портного, и нагло посмотрел на прапорщиков.
— Коржиков, что вам? — спросил Харченко.
— Дозвольте поговорить, — сказал молодой человек.
— Хорошо. Так ступайте, Михайлов. Значит, займитесь словесностью. Пожалуйста, Коржиков.
XIV
После убийства полковника Карпова Коржиков перебежал к австрийцам. За те ценные показания о расположении и настроении русских войск, которые он сделал в австрийском штабе, ему удалось получить свободу и он пробрался в Швейцарию, в Зоммервальд. Он думал, что он там никого не застанет, но, к его удивлению, Коржиков, Бродман и все члены семерки были на местах. В доме Любовина был организован их боевой штаб. Только что окончилась конференция интернационалистов в Циммервальде, и на ней была принята формула, предложенная Лениным:
«С точки зрения рабочего класса и трудовых масс всех народов России, наименьшим злом было бы поражение царской монархии и ее войск».
По поводу этой формулы среди эмигрантов шли разговоры. Ее считали слишком резкой. Для членов семерки не было тайной, что Ленин получил крупные деньги от германского правительства, и это многих отшатнуло от него. Отошел от него и Федор Федорович. Но Ленин назвал их «социал-предателями» и замкнулся в работе с тесной кучкой преданных ему людей, исключительно евреев.
Бродман был в этой группе. Он вызвал Коржикова к себе, долго беседовал с ним, ездил с докладом о нем в центральный комитет и затем с глазу на глаз передал Виктору следующее: