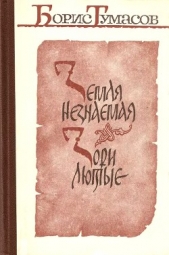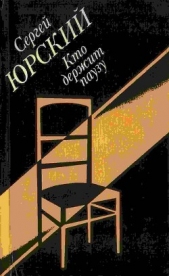Былина о Микуле Буяновиче

Былина о Микуле Буяновиче читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Отсюда Илья едет до конца пути — четырнадцать верст — ровной спорой рысью. А обратно, выехавши из села, заваливается в повозку и пускает лошадей, все равно, ночью или днем, ровным полусонным шагом. И вот на обратном пути у Дедушкиной пасеки, совсем сухие и готовые для корма лошади снова останавливаются. И, как бы крепко Илья не спал, от полной тишины, когда перестают стучать колеса и звенеть колокольцы, он обязательно и точно просыпался. Распрягал лошадей, пускал на траву, а сам спускался с калачом в руках к ручью, и потом бродил по косогору, поглядывал на лошадей, чтобы не стравили чужой хлеб или стог сена, и предавался песенным раздумьям, полусонным, полупьяным, не то грустным, не то радостным, таким, в которых вспоминалась позабытая, давно потерянная юная любовь. А песни его, бывало, слушает в овраге старый дед, вздыхает и грустит о прошлом, вспоминает молодость и шепчет покаянные молитвы, сетуя на ямщика: поет, а никогда не спускается к избушке перемолвится со стариком двумя словами для веселья. Воду брал и лошадей поил Илья всегда далеко на низу гремучего ручья, как будто избегал встречаться с дедом. Только как-то раз спустился, закурил и погостил немного.
Был Август на исходе. Роща в косогоре Дедушкиной пасеки была уж позолочена осенним увяданием. Первые отжившие листочки опадали и золотыми мотыльками слетали на землю. С косогора, через узкую долину ручья, через жердяную городьбу были виден осенний лес на склонах гор, а по подолам их — поля: желтые квадраты сжатых полос, светло-зеленые ленты свежих озимей и темно-зеленые куски отав с осевшими и потемневшими стогами сена. С тракта, окружавшего овраг полукругом, пасека казалась маленьким скитом с одной серой келейкой и, как пустынник, подвизался в ней одинокий пасечник.
Двери избушки почти всегда были открыты настежь, и среди рояльниц, сеток, бадеек и разного хозяйского хлама, в избушке сидел дед длинной холщевой рубахе. Он смотрел вверх, где видел часть дороги с убегающими к краю неба телеграфными столбами, а на небе розовеющие от заката светлые барашки облаков. Дед был сутул и коренаст, борода его уже не белая, а желтая от старины, но голубые глаза еще зорки. Войлочная шляпа набекрень.
Однажды, под вечер, стругал он палочки — перегородки в ульи. Делал это он только для того, чтобы не сидеть без дела. Часто отрывался и смотрел вдоль дороги, на край неба. Прислушивался: вверху над ним в это лето впервые кричали улетающие на юг журавли: кыр-лы… кыр-лы!
Дед заворотил бороду и высоко увидел треугольник снявшейся станицы.
— Полетели! Надо быть зиму чуют раннюю, — сказал он звучным басом.
Дед всегда один, но постоянно разговаривал вслух и громко: с пчелами, с живущими в избушке мышами, с муравьями, ворующими воск и утопающими в бадье с медом, с ветром, с деревьями, сам с собою.
Еще прислушался. На тракте звенели колокольчики.
— Ямщик обратный. Кормит лошадей тут… — проворчал дед и вздохнул. — А журиньки на море полетели. Стюдено стает, проходит красно летичко… Проходит!
Еще вздохнул старик, подождал и вновь прислушался: колокольцы затихли, а взамен их с косогора послышалась знакомая ямщицкая песня.
Журавли, отыскивая место для привала, сделали над рощей круг, и снова уронили несколько кликов в пасеку.
Дед увидел у края рощи в отаве спутанных лошадей, которые скакали к стогу, а молодой ямщик заворачивал их к водопою.
Старик поежился, поднялся, взял зипун, накинул на плечи.
— Да, стюдено стает! — сказал он снова, — Пчелок надо скоро убирать в омшаник. Ох-хо-хо-о!
Он вышел из избушки, сделал из руки козырек и еще раз поглядел на юго-запад, куда убегал, упираясь в небо, почтовый тракт, потом подбросил хворосту в костер, поставил черный котелок с картошкой и уселся возле огня, прислушиваясь к столь знакомым, радостным звукам угасающего дня в полях.
— Н-да, прошло, знать, красно летичко, прошло! — опять вздохнул он, — Летит времечко… Летит!
И совсем отчетливо услышал слова приближающейся песни ямщика:
— Ишь, запел опять, певун! — ухмыльнулся дед, — Ни заботы, видно, ни печали.
А сам жадно вслушивался в слова песни.
— Ишь ты, все девку надо. Без девки, видно, и песня не поется.
— Хе! Без девки, видно и ноги не несут… Ах, ядрено-зелено! — разговаривал на расстоянии с певцом старик. — Да, брат, молодой, дак пой, пока поется! А мне, вот, скоро умирать пора… Не терпит времячко, не ждет.
Солнце совсем зашло за далекие поля, сгустилась краска в облаках, и дед затих, задумался, смотря на разгоревшийся костер.
— Здорово, старичок! Бог в помощь!
Старик вздрогнул и оглянулся.
Из-за избушки, из лесной чащи, с нижней тропинки поднимались двое: мужик с узенькой полуседой бородкой и подросток лет двенадцати. Оба с сумками, запыленные, в плохой одежде, совсем, как нищие.
— У-у! Што бы те клеймило! — не сразу выругался дед, — Как испугал! Вы пошто не по-людски, не по дороге, ходите?
— Да, ишь мы тут спрямить хотели, а вышло: больше наплутали, — ответил Петрован и в голосе его была усталость и виноватая усмешка над собою.
Микулка, сбросив свою сумку, сразу же сел на земь и стал осматривать свои потрескавшиеся босые ноги.
— А што, деда, до деревни тут далеко? — спросил Петрован, опираясь на свой замызганный и суковатый костылек.
— А до какой тебе деревни? — подозрительно прищурился старик.
— Да нам заночевать бы где-нибудь в тепле. Ночи студенее стают. Дело к осени.
— Да, к осени, — густо отозвался дед, — Журавли уж полетели. А вы какие люди будете?
— Да вот пошли на заработки в город, — сказал мужик, как говорил он это всем, не признаваясь, что приемлет подаяние.
— В город?
Дед с ног до головы оглядел прохожих и неодобрительно протянул:
— Та-ак! А издалека?
— Да верст двести прошагали, с хвостиком.
Старик кивнул на Микулку:
— И он, босяк, идет?
— Идет. Ижно с прискочкой, — беззаботно отозвался Петрован, — Только вчера вот, ногу напорол на гвоздь, не то на стекло вострое.
Дед жалостливо качнул голову и смягчился:
— Дак заночевать говоришь? Тут, верст четырнадцать, будет село большое — дак новоселы все, не пускают. Не наш брат — простофили-старожилы. У них хлеба кус не выпросишь… Бедняков не пускают.
— Четырнадцать-то нам поди не прошагать сегодня. Поздновато.
— Как шагать! Шагают всяко.
— Шагаем мы добро, да мозоли нашагали. У меня же нога ломана была.
Дед ухмыльнулся:
— А што так высоко скакал, сломал?
— Орешничал да с кедра упал, — объяснил Петрован. — Лет тому семнадцать. У тебя и ключик тут бежит. Поди напиться можно? — Петрован затягивал беседу, чтобы оттянуть уход и попроситься на ночлег к деду.
— А пошто нельзя? — ответил дед. — Напейся, ежели сомлел. Вода, брат, Божья, не моя. Вода, брат, здесь слеза Господня: сколь студеная, столь светлая. Тут с тракта все прохожие — проезжие спускаются, отводят душу. Особливо летом, в жар.
Услыхав словоохотливость старика Микулка вдруг прозвенел и выручил несмелого отца:
— А ночевать тут у тебя, деданька, нельзя нам?
— Хе-х! Ты! Какой прыткой! Даром што хромой, — сурово промолчал старик.
Микулка засмеялся, а Петрован заговорил прямее:
— Мы признаться с тем и завернули, да не посмели сразу сказать.
Дед посветлел.
— Да ничего, ночуйте, коли люди путные. В избе-то у меня тепло. Солома настлана.
И почуяли себя Прохожие, как дома: празднично, уютно в дедушкиной пасеке. Не ушел бы никуда.
— А ну-ка, парничок, — распорядился дед, — Беги в согру, дровишек сухоньких пособирай. Можешь?