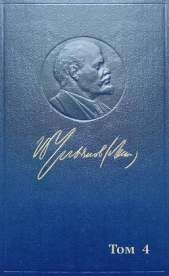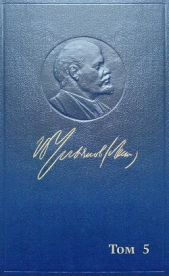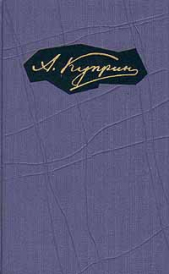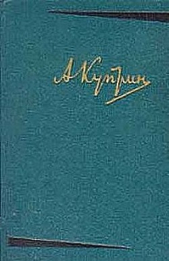Том 3. Произведения 1901-1905
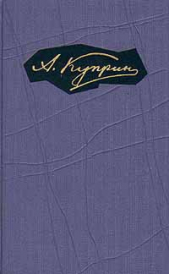
Том 3. Произведения 1901-1905 читать книгу онлайн
В третий том вошли произведения 1901–1905 гг.: «Сентиментальный роман», «Серебряный волк», «По заказу», «Поход», «Болото», «Трус», "В цирке", "На покое", "Конокрады", "Белый пудель", "Мирное житие", "Корь", «В казарме», «Жидовка», «Брильянты», «Пустые дачи», "С улицы", «Хорошее общество», «Жрец», «Сны», "Черный туман".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так они ходили по арене, едва переступая ногами, не отрываясь друг от друга и делая медленные, точно ленивые и нерешительные движения. Вдруг Ребер, поймав обеими руками руку своего противника, с силой рванул ее на себя. Не предвидевший этого приема, Арбузов сделал вперед два шага и в ту же секунду почувствовал, что его сзади опоясали и подымают от земли сильные, сплетшиеся у него на груди руки. Инстинктивно, для того чтобы увеличить свой вес, Арбузов перегнулся верхней частью туловища вперед и, на случай нападения, широко расставил руки и ноги. Ребер сделал несколько усилий притянуть к своей груди его спину, но, видя, что ему не удастся поднять тяжелого атлета, быстрым толчком заставил его опуститься на четвереньки и сам присел рядом с ним на колени, обхватив его за шею и за спину.
Некоторое время Ребер точно раздумывал и примеривался. Потом искусным движением он просунул свою руку сзади, под мышкой у Арбузова, изогнул ее вверх, обхватил жесткой и сильной ладонью его шею и стал нагибать ее вниз, между тем как другая рука, окружив снизу живот Арбузова, старалась перевернуть его тело по оси. Арбузов сопротивлялся, напрягая шею, шире расставляя руки и ближе пригибаясь к земле. Борцы не двигались с места, точно застыв в одном положении, и со стороны можно было подумать, что они забавляются или отдыхают, если бы не было заметно, как постепенно наливаются кровью их лица и шеи и как их напряженные мускулы все резче выпячиваются под трико. Они дышали тяжело и громко, и острый запах их пота был слышен в первых рядах партера.
И вдруг прежняя, знакомая физическая тоска разрослась у Арбузова около сердца, наполнила ему всю грудь, сжала судорожно за горло, и все тотчас же стало для него скучным, пустым и безразличным: и медные звуки музыки, и печальное пение фонарей, и цирк, и Ребер, и самая борьба. Что-то вроде давней привычки еще заставляло его сопротивляться, но он уже слышал в прерывистом, обдававшем ему затылок дыхании Ребера хриплые звуки, похожие на торжествующее звериное рычание, и уже одна его рука, оторвавшись от земли, напрасно искала в воздухе опоры. Потом и все его тело потеряло равновесие, и он, неожиданно и крепко прижатый спиной к холодному брезенту, увидел над собой красное, потное лицо Ребера с растрепанными, свалявшимися усами, с оскаленными зубами, с глазами, искаженными безумием и злобой…
Поднявшись на ноги, Арбузов, точно в тумане, видел Ребера, который на все стороны кивал головой публике. Зрители, вскочив с мест, кричали как исступленные, двигались, махали платками, но все это казалось Арбузову давно знакомым сном — сном нелепым, фантастическим и в то же время мелким и скучным по сравнению с тоской, разрывавшей его грудь. Шатаясь, он добрался до уборной. Вид сваленного в кучу хлама напомнил ему что-то неясное, о чем он недавно думал, и он опустился на него, держась обеими руками за сердце и хватая воздух раскрытым ртом.
Внезапно, вместе с чувством тоски и потери дыхания, им овладели тошнота и слабость. Все позеленело в его глазах, потом стало темнеть и проваливаться в глубокую черную пропасть. В его мозгу резким, высоким звуком — точно там лопнула тонкая струна — кто-то явственно и раздельно крикнул: бу-ме-ранг! Потом все исчезло: и мысль, и сознание, и боль, и тоска. И это случилось так же просто и быстро, как если бы кто дунул на свечу, горевшую в темной комнате, и погасил ее…
< 1901>
На покое
Когда единственный сын купца 1-й гильдии Нила Овсянникова, после долгих беспутных скитаний из труппы в труппу, умер от чахотки и пьянства в наровчатской городской больнице, то отец, не только отказывавший сыну при его жизни в помощи, но даже грозивший ему торжественным проклятием при отверстых царских вратах, основал в годовщину его смерти «Убежище для престарелых немощных артистов имени Алексея Ниловича Овсянникова». Оттого ли, что учреждение это находилось в глухом губернском городе, или по другим причинам, но жильцов в нем всегда бывало мало. Убежище помещалось в опустевшем барском особняке, все комнаты которого давным-давно пришли в ветхость, за исключением громадной залы с паркетным полом, венецианскими окнами и белыми, крашенными известкой, кривыми от времени колоннами. В этой зале и ютились осенью 1899 года пятеро старых, бездомных актеров, загнанных сюда нуждой и болезнями.
Посредине залы стоял овальный обеденный стол, обтянутый желтой, под мрамор, клеенкой, а у стен между колоннами размещались кровати, и около каждой по шкапчику, совершенно так же, как это заведено в больницах и пансионах. Венецианских окон никогда не отворяли из боязни сквозняка, от этого в комнате прочно установился запах нечистоплотной, холостой старости — запах застоявшегося табачного дыма, грязного белья и больницы. Вверху, между стенами и потолком, всегда висела серая, пыльная бахрома прошлогодней паутины.
Лучшим местом считался угол около большой голландской печи, старинные изразцы которой были разрисованы синими тюльпанами. Здесь зимой бывало очень тепло, а широкая печь, отгораживая с одной стороны кровать, придавала ей до некоторой степени вид отдельного жилья. В этом привилегированном месте устроился самый давний обитатель овсянниковского дома, бывший опереточный тенор Лидин-Байдаров, слабоумный, тупой и необыкновенно спесивый мужчина, с трудом носивший на тонких, изуродованных подагрой ногах свое грузное и немощное тело. Попав в убежище с самого дня его основания, он держал себя в нем хозяином и первый дал тон скверным анекдотам и циничным ругательствам, никогда не прекращавшимся в общих разговорах. Он же покрывал белые колонны залы и стенки уборной теми гнусными рисунками и омерзительными изречениями в стихах и прозе, на которые было неистощимо его болезненное воображение тайного эротомана.
По другую сторону печи, ближе к окнам, помещался бывший суфлер Иван Степанович — плешивый, беззубый, сморщенный старикашка. В былые времена весь театральный мир звал его фамильярно «Стаканычем»; это прозвище сохранилось за ним и в убежище. Стаканыч был человек кроткий, набожный, сильно глуховатый на оба уха и, как все глухие, застенчивый. Ежедневно, по нескольку раз, Лидин-Байдаров развлекался тем, что, сохраняя на лице озабоченное выражение, говорил старому суфлеру издали всякие сальности, на что Стаканыч улыбался ласковой смущенной улыбкой, торопливо кивал головой и отвечал невпопад, к великому удовольствию бывшего опереточного премьера, которому эта шутка никогда не надоедала.
С утра до вечера Стаканыч мастерил из разноцветных бумажек, тонкой проволоки и бисера какие-то удивительно хитрые коробочки. Раз или два в год он отсылал их партиями своему сыну Васе, служившему где-то в уездном театре, «на выходах». Если же он не клеил коробочек, то раскладывал на своей кровати пасьянсы, которых знал чрезвычайно много.
По ту же сторону, но совсем у окон, обитал старый трагик Славянов-Райский. Изо всех пятерых он один пользовался некогда широкой и шумной известностью. В продолжение семи лет его имя, напечатанное в афишах аршинными буквами, гремело по всем провинциальным городам России. Но через год после его угарного заката публика и печать сразу и совершенно позабыли о нем. За кулисами, впрочем, старые актеры долго еще вспоминали о небывалых и безумных успехах его гастролей, о бешеных деньгах, которые он разбрасывал в своих легендарных кутежах, и о скандалах и драках, которые он устраивал в каждом городе.
С товарищами по общежитию Славянов-Райский держался надменно и был презрительно неразговорчив. По целым дням он лежал на кровати, молчал и без перерыва курил огромные самодельные папиросы. Иногда же, внезапно вскочив, он принимался ходить взад и вперед по зале, от окон к дверям и обратно, мелкими и быстрыми шагами. И во время этой лихорадочной беготни он делал руками перед лицом короткие негодующие движения и отрывисто бормотал непонятные фразы…
Напротив стояла кровать «дедушки», которого, так же как и Стаканыча, весь актерский мир знал больше по этому прозвищу, чем по фамилии. Уже целых три месяца дедушка не вставал с постели и, обросший белыми мягкими длинными волосами, лежал иссохший и благообразный, напоминая в своей белой рубашке иконописное изображение отходящего угодника. Он говорил мало, с передышками, глухим и тонким старческим голосом и с таким трудом, как будто бы стонал на каждом слове. У него болела грудь, но кашлять по-настоящему ему было трудно, и он только кряхтел слабо и жалобно. Дедушка был очень стар, вероятно, старше всех современных русских актеров. В прежнее же время он был известен во многих труппах как хороший актер на амплуа резонеров и дельный, грамотный режиссер.