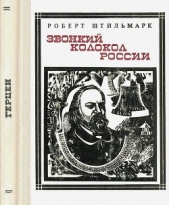Былое и думы.(Предисловие В.Путинцева)

Былое и думы.(Предисловие В.Путинцева) читать книгу онлайн
Писатель, мыслитель, революционер, ученый, публицист, основатель русского бесцензурного книгопечатания, родоначальник политической эмиграции в России Александр Иванович Герцен (Искандер) почти шестнадцать лет работал над своим главным произведением — автобиографическим романом «Былое и думы». Сам автор называл эту книгу исповедью, «по поводу которой собрались… там-сям остановленные мысли из дум». Но в действительности, Герцен, проявив художественное дарование, глубину мысли, тонкий психологический анализ, создал настоящую энциклопедию, отражающую быт, нравы, общественную, литературную и политическую жизнь России середины ХIХ века.
Роман «Былое и думы» — зеркало жизни человека и общества, — признан шедевром мировой мемуарной литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Как пять? вот мой билет.
— Мест больше нет.
Я стал спорить; в почтовом доме отворилось с треском окно, и седая голова с усами грубо спросила, о чем спор. Кондуктор сказал, что я требую семь мест, а у него их только пять; я прибавил, что у меня билет и расписка в получении денег за семь мест. Голова, не обращаясь ко мне, дерзким, раздавленным русско-немецко-военным голосом сказала кондуктору:
— Ну, не хочет этот господин пяти мест, так бросай пожитки долой, пусть ждет, когда будут семь пустых мест.
После этого почтенный почтмейстер, которого кондуктор называл «Herr Major» и которого фамилия была Шверин, захлопнул окно. Обсудив дело, мы, как русские, решились ехать. Бенвенуто Челлини, как итальянец, в подобном случае выстрелил бы из пистолета и убил почтмейстера.
Мой сосед, исправленный Диффенбахом, в это время был в трактире; когда он вскарабкался на свое место и (251) мы поехали, я рассказал ему историю. Он был выпивши и, следственно, в благодушном расположении; он принял глубочайшее участие и просил меня дать ему в Берлин записку.
— Вы почтовый чиновник? — спросил я.
— Нет, — отвечал он, еще больше* в нос, — но это все равно… я… видите… как это здесь называется — служу в центральной полиции.
Это открытие было для меня еще неприятнее собственноручного носа.
Первый человек, с которым я либеральничал в Европе, был шпион, зато он не был последний.
…Берлин, Кельн, Бельгия — все это быстро прореяло перед глазами; мы смотрели на все полурассеянно, мимоходом; мы торопились доехать и доехали,наконец.
…Я отворил старинное, тяжелое окно в Hotel du Rhin; передо мной стояла колонна —
Итак, я действительно в Париже, не во сне, а наяву: ведь это Вандомская колонна и Rue de la Paix.
В Париже — едва ли в этом слове звучало для меня меньше, чем в слове «Москва». Об этой минуте я мечтал с детства. Дайте же взглянуть на Hotel de Ville, на cafe Foy в Пале-Рояле, где Камиль Демулен сорвал зеленый лист и прикрепил его к шляпе, вместо кокарды, с криком: «a la Bastille!»
Дома я не мог остаться; я оделся и пошел бродить зря… искать Бакунина, Сазонова — вот Rue St.-Honore, Елисейские поля — все эти имена, сроднившиеся с давних лет… да вот и сам Бакунин…
Его я встретил на углу какой-то улицы; он шел с тремя знакомыми и, точно в Москве, проповедовал им что-то, беспрестанно останавливаясь и махая сигареткой. На этот раз проповедь осталась без заключения: я ее перервал и пошел вместе с ним удивлять Сазонова моим приездом.
Я был вне себя от радости!
На ней я здесь и остановлюсь.
Париж еще раз описывать не стану. Начальное знакомство с европейской жизнью, торжественная прогулка (252) по Италии, вспрянувшей от сна, революция у подножия Везувия, революция перед церковью св. Петра и, наконец, громовая весть о 24 феврале, — все это рассказано в моих «Письмах из Франции и Италии». Мне не передать теперь с прежней живостью впечатления, полустертые и задвинутые другими. Они составляют необходимую часть моих «Записок», — что же вообще письма, как не запискио коротком времени?
ГЛАВА XXXV. МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ РЕСПУБЛИКИ
…«Завтра мы едем в Париж, я оставлю Рим оживленным, взволнованным. Что-то будет из всего этого? Прочно ли все это? Небо не без туч, временами веет холодный ветер из могильных склепов, нанося запах трупа, запах прошедшего; историческая трамонтана [417]сильна — но что бы ни было, благодарность Риму за пять месяцев, которые я в нем провел. Что прочувствовано, то останется в душе — и совершенно всего не сдует же реакция».
Вот что я писал в конце апреля 1848 года, сидя у окна на Via del Corso и глядя на «Народную» площадь, на которой я так много видел и так много чувствовал.
Я ехал из Италии влюбленный в нее, мне жаль было ее — там встретил я не только великие события, но и первых симпатичных мне людей — а все-таки ехал. Мне казалось изменой всем моим убеждениям не быть в Париже, когда в нем республика. Сомнения видны в приведенных строках, но вера брала верх, и я с внутренним удовольствием смотрел в Чивите на печать консульской визы, на которой были вырезаны грозные слова «Republique Franchise», — я и не подумал, что именно потому Франция и не республика, что надо визу! (253)
Мы ехали на почтовом пароходе. Общество было довольно большое и, как всегда, разнообразно составленное: тут были путешественники из Александрии, Смирны, Мальты. С Ливорно начиная, поднялся страшный весенний ветер: он гнал пароход с ^неимоверной быстротою и с невыносимой качкой; через два-три часа палуба покрылась больными дамами, мало-помалу слегли и мужчины, исключая одного седого старичка француза, англичанина в меховой куртке и меховой шапке из Канады и меня. Каюты были тоже наполнены больными, и одной духоты и жара в них было достаточно, чтоб заболеть; мы трое ночью сидели посредине палубы на чемоданах, покрывшись шинелями и рельверагами, под завыванье ветра и плеск волн, заливавших иногда переднюю часть палубы. Англичанина я знал: в прошедшем году мы ехали с ним на одном пароходе из Генуи в Чивита-Веккию. Случилось, что мы обедали только двое; он весь обед ничего не говорил, но за десертом, смягченный марсалой и видя, что и я, с своей стороны, не намерен вступать в разговор, он подал мне сигару и сказал, что «сигары свои он сам привез из Гаваны». Потом мы разговорились с ним; он был в Южной Америке, в Калифорнии и говорил, что много раз собирался съездить в Петербург и в Москву, но не поедет, пока не будет правильногосообщения и прямого между Лондоном и Петербургом. [418]
— Вы в Рим? — спросил я его, подъезжая к Чивите.
— Не знаю, — отвечал он.
Я замолчал, полагая, что он принял мой вопрос за нескромный; но он тотчас добавил:
— Это зависит от того, как климат мне понравится в Чивите. — А вы остаетесь здесь?
— Да. Пароход пойдет завтра.
Я тогда еще очень мало знал англичан и потому едва мог скрыть смех — и совсем не мог, когда на другой день, гуляя перед отелем, встретил его в той же меховой куртке, с портфелью, зрительной трубкой, маленьким несессерчиком, шествующего перед слугой, навьюченным чемоданом и всяким добром.
— Я в Неаполь, — сказал он, поровнявшись.
— Что же климат, не понравился? (254)
— Скверный.
Я забыл сказать, что в первый проезд он лежал в каюте на койке, которая была непосредственно над моей; в продолжение ночи он раза три чуть не убил меня: то страхом, то ногами; в каюте была смертная жара, он несколько раз ходил пить коньяк с водой и всякий раз, сходя или входя, наступал на меня и громко кричал, испугавшись:
— Oh — beg pardon — jai avals soif.
— Pas de mal. [419]
С ним, стало, в этот путь мы встретились как старые знакомые; он с величайшей похвалой отозвался о том, что я не подвержен морской болезни, — и подал мне свои гаванские сигары. Совершенно естественно, что через минуту разговор зашел о февральской революции. Англичанин, разумеется, смотрел на революцию в Европе как на интересное зрелище, как на источник новых и любопытных наблюдений и ощущений и рассказывал о революции в Новоколумбийской республике..
Француз принимал иное участие в этих делах… с ним через пять минут у меня завязался спор; он отвечал уклончиво, умно, не уступая, впрочем, ничего, и с чрезвычайной учтивостью. Я защищал республику и революцию. Старик, не нападая прямо на нее, стоял за исторические формы, как единственно прочные, народные и способные удовлетворить и справедливому прогрессу и необходимой оседлости.