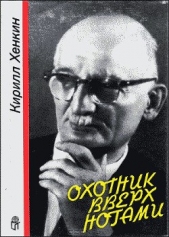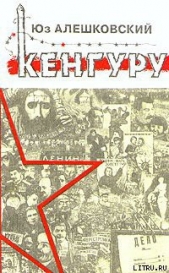Месяц вверх ногами

Месяц вверх ногами читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Жена Роджера разносила сыры, изготовленные ею. Сыры были прекрасны. Жена Флекса сильным голосом пела прекрасные песни докеров, пастухов, золотоискателей, свободных людей, у которых все их имущество - одеяло за плечами да умелые руки.
На низких яблонях блестели стеклянные нити - защита от птиц, и в этом наряде яблони были прекрасны.
Я поднял тост за Австралию, и все сочли этот тост прекрасным, такие это были прекрасные люди.
Никто из них ни одним словом, ни намеком не дал почувствовать, что весь этот пикник был организован ради нас. Я представлял, как заранее оборудовался для поездки по полям прицеп,- не будь нас, никому бы не пришло в голову ездить по полям; как готовились столы и тюки с сеном. Никто не предписывал этим заниматься, это было нечто большее, чем гостеприимство. Никто из них не бывал в нашей стране. Они не были коммунистами. Они не знали нас как писателей. Они ведь ничем не были нам обязаны. И меньше всех Роджер. Уж он-то, вынужденный считать каждый шиллинг, чего ради он тратился, готовился, что ему были мы?
Я слушал, как Роджер умножал двадцать литров молока от каждой коровы на семьдесят и делил на количество акров. Он не стеснялся считать, он вынужден был считать, иначе ему было не прожить. Беспечный поэт уживался в нем с расчетливым хозяином. Мужчины сочувственно помогали ему вычислять невыгодность мясного хозяйства. Огород держать тоже невыгодно. Час работы на огороде дает меньше, чем час работы с коровами.
- Надеюсь, в будущем,- говорил Роджер,- мы создадим кооператив с соседними фермами и избавимся от посредников, сами будем продавать.
- Да здравствует независимость! - кричал Флекс. Поспел чай. Роджер раскручивал на веревке закопченный котелок с чаем. Он хотел показать нам всю процедуру приготовления австралийского чая, крепчайшего, черноту которого обычно забеливают молоком, чтобы было не так страшно. Он хотел, чтобы этот день запомнился всем нам. Он принадлежал к счастливейшему типу людей, которые умеют делать "сегодня" главным днем жизни.
Но, может быть, действительно этот день значил для него так же много, как и для меня. Я посмотрел на его открытое лицо. Он встретил мой взгляд и, поняв, сказал:
- Хорошо, что вы приехали. Я запомню этот день. В его глазах я увидел недосказанное, то, что люди не умеют выразить словами. Я тоже не могу это передать. Мы тут были ни при чем. Он принимал у себя на ферме нашу страну. Сколько за свою жизнь прочел он о ней всякой всячины, небылиц и напраслин, сколько было у него сомнений, разочарований. В конце концов, что мы сделали для него? И все же он принимал нас по высшему разряду любви и дружбы.
Вот о чем я размышлял. О том, что мы не знаем, как мы выглядим со стороны, что мы значим для людей, казалось бы никак не связанных с нами, живущих где-то на другой половине земного шара, на маленькой ферме в штате Южная Австралия. Что бы там ни было, мы нужны, нужны каждому думающему человеку. Речь шла о самой сути, о сущности моей страны, о конечном смысле ее, который сохранялся для Роджера среди всех подлинных и приписанных нам грехов.
Мы возвращались под вечер. Машина ехала прямо в закат. Земля светилась золотом. Холмы стали сиреневыми, как на картинах Наматжиры. Мы возвращались другой дорогой. Кругом лежали разомлелые поля, диковатые долины, заросшие мульгой, и снова поля, окрашенные чистыми красками - желтой, красной и зеленой. Белые колонны эвкалиптов уходили под небо. Некоторые из них цвели неистово-алыми цветами. Закат был громадный, под стать этим огромным полям.
Такую щедрость пространства я видел только у нас. Краски у нас были другие, природа другая, но что-то родственное было в здешнем приволье. Просторы земли отзывались в людях свободолюбием, душевным размахом, независимостью.
Нас мало что связывало в истории, мы плохо знали друг друга, но в чем-то мы были схожи, даже близки.
- Что произвело на вас наибольшее впечатление в Австралии? - спросили меня в Сиднее.
- Ферма,- сказал я. - Роджер Макнайт, ферма, весь тот день.
- Почему?
Я развел руками. Я не сумел объяснить журналистам закат, взгляд Роджера, вкус клевера. Может быть, если б они приехали к нам, они бы поняли...
К.-С. ПРИЧАРД
В Канберре, в посольстве, нас ждало письмо Катарины Причард. Она просила составить маршрут так, чтобы побывать у нее. Не будь этого письма, мы все равно бы заехали к ней. Нелепо было приехать в Австралию и не повидаться с Причард. По письму чувствовалось, как она ждала нас. И пока мы ехали к ней на машине из Перта, я думал о том, как трудно нам будет оправдать ее ожидание. Нас вез писатель Берт Виккерс. Он беспокоился: последнее время Причард болела и подолгу не вставала с постели. Ее болезнь волновала всех писателей штата. Даже писатели крайне правого толка спрашивали нас: "Вы были у Катарины, как она себя чувствует?".
Они считали ее противником, порицали ее партию и тем не менее по-своему любили Причард и гордились ею.
Она встретила нас на террасе своего старого дома. Она стояла в белом платье, держась за темную от времени балясину, седая голова ее была такой же белоснежной, как и платье. Издали ее стройная фигура казалась совсем юной.
Мы шли к ней по аллее, а потом побежали.
На портретах она выглядела куда старше. Я обнял ее и расцеловал, не успев подумать, прилично ли так обращаться с классиком, которого видишь впервые в жизни, да еще с заграничным классиком, да еще с женщиной.
В свои восемьдесят лет она прежде всего была женщина. Она чуть накрасила губы, припудрилась, глаза ее блестели. Оксана звала ее Катя, а я от почтения Катериной. Ее невозможно было звать миссис Причард.
Большой дом ее, ветхий, скрипучий, стоял неподалеку от шоссе, в заросшем саду. Мы расположились на террасе, увитой виноградом.
- Рассказывайте, - потребовала Причард. - Про Москву, Ленинград, про себя...
Она приготовилась слушать нас, как будто мы должны были привезти какие-то откровения. Она нарушала все обычаи поведения классиков. Я привык к тому, что классики и те, кто считают себя классиками, любят говорить сами, они вещают истины, роняют ценные мысли, чтобы слушатели почтительно заносили их изречения в записные книжки и публиковали в мемуарах. Причард самым легкомысленным образом нарушала традицию.
- Катарина! - взмолились мы, пытаясь призвать ее к порядку.
Она рассмеялась и принялась расспрашивать меня о моей работе. Она не давала опомниться: если ее что-то интересовало, бесполезно было противиться. Оказывается, перед нашим приездом она раздобыла английское издание одной из моих книг, прочла это будучи больной! - и теперь выпытывала подробности, выясняла места, которые не поняла, рассказывала свои впечатления. Я был огорошен. Я не привык к такому вниманию. Оно вызывает во мне глупое умиление. Разумеется, я понимал, что Катарина прочла бы книгу любого другого писателя, приехавшего вместо меня. Она принадлежала к натурам, для которых максимум внимания к людям проявляется естественно, в любых обстоятельствах, это норма их жизни. Она считает, что иначе и быть не может. Ей неловко и странно слышать какие-то слова благодарности по поводу такого поведения.
Однажды я попросил академика Смирнова принять меня. Договорились, что я приеду к нему на дачу к двенадцати часам. Счастье мое, что я случайно подошел к его даче вовремя. Владимир Иванович уже стоял на шоссе, ожидая меня. Вышел навстречу. Опять скажете - умиление нормальными вещами? Но я думал тогда - почему никому из людей моего поколения и младше меня не придет в голову выйти к назначенному времени навстречу гостю? Мы будем гостеприимны и радушны, но нам и не догадаться, что можно еще и так выразить свое внимание к человеку. Сколько раз мы упускаем подобные возможности.
После пустоватой, веселой болтовни на приемах и коктейлях было приятно сидеть на этой старой террасе и говорить о серьезных вещах. Мы соскучились по серьезному разговору. Никто уже не внимал друг другу, мы спорили, бесцеремонно прерывали друг друга, шумели, радовались одинаковости каких-то сомнений.