Том 12. В среде умеренности и аккуратности
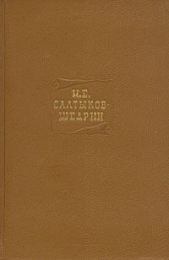
Том 12. В среде умеренности и аккуратности читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника». Именно эти произведения и в такой последовательности Салтыков предполагал объединить в одном томе собрания своих сочинений, готовя в 1887 г. его проспект.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Третья моя особенность — это искреннее убеждение, что жить довольно. Хотя моя тоска и мой стыд еще могут в известной степени иметь воспитательное значение, но значение это, в смысле практических от него последствий, полезно только для других, я же лично ничего из них не извлекаю, кроме страстного желания исчезнуть, уйти. С давних пор я вижу последнюю страницу с начертанным на ней словом «конец» и, право, никого не желаю надуть, говоря, что это самая желательная страница, какой только можно желать. Подумайте, какая масса срама вдруг перестанет существовать! и какая громадная свита безобразных видений рассеется, как дым, и не будет больше тревожить испуганное воображение!
Несомненно, что стремление сократиться и исчезнуть — всего ближе подходит к девизу: ни зла, ни добра, и что в этом смысле оно не должно бы даже значиться в числе оправдательных документов. Но, взятое само по себе, независимо от практических применений, оно все-таки имеет право быть выделенным. Когда есть сознание, что «продолжение впредь» не представляет иных перспектив, кроме перспективы хронического бессилия, тогда не может быть желания более законного и естественного, а пожалуй, даже и более нравственного, как желание исчезнуть. Сколько есть таких, которые, будучи подавлены массами срама, все еще карабкаются и хватаются дрожащими руками за колеблющиеся нити срамного существования, почему же, рядом с ними, не допустить и таких, в сердцах которых это жадное ловление жизненных нитей производит только скуку, граничащую с отвращением?
Одним словом, ничего не умалчивая, но ничего и не преувеличивая, я нахожу возможным заранее сложить самому себе такого рода надгробное слово:
«Милостивые государи! перед вами лежит прах человека, которого жизнь была осуществлением девиза: ни добра, ни зла. Этот человек не самоотвергался лично, но и не ругался над самоотвержением, не плевал на него, не топтал его ногами и не устраивал из него водевиль с переодеванием. Он слышал новые песни, и ежели не имел ни сил, ни уменья вторить им в тон, то, во всяком случае, соглашался, что его собственная песнь спета. Клики торжествующего бесстыдства не соблазняли его, а, напротив, поселяли в его сердце уныние, тоску… стыд! Представление о стыде составляло руководящее начало очень достаточной части его существования и в значительной степени примиряло его с тревогами совести. Стыд примирил его и с идеей исчезновения; он помог ему видеть в этом акте не тяжкую разлуку с благами жизни, но освобождение от уз срама. Геройство не было в привычках этого человека, а может быть, отсутствовало и в самой природе его, но при этом нельзя не принять во внимание, во-первых, традиций эстетизма и обеспеченности, на лоне которых был этот человек воспитан, а во-вторых, и того, что геройство вообще не обязательно. Это последнее соображение в особенности веско, хотя довольно редко принимается в расчет. Как бы то ни было, но кажется, что сказанное в этих немногих словах дает возможность, не обременяя памяти этого человека словом укоризны, заключить расчет с пройденным им жизненным путем словами: Sit tibi terra levis» [155]. И довольно.
Я сидел в своем углу и изнемогал; Глумов, по обыкновению, большими шагами ходил по комнате и был угрюм. Мы только что прочитали газеты и вели по этому поводу разговор.
— Ну, можно ли так! — восклицал я, — ведь это значит, что самого простого практического смысла — и того нет!
— Нет, ты обрати внимание, до чего понизился уровень нашей печати! — вторил мне Глумов, — простой совести — и той нет!
Поговорили, поахали и, наконец, обратились к самим себе. Мы-то какую роль играем в круговороте современности? Что мы такое? Что мы можем, зачем живем? Но это обращение еще больше раздражило нас обоих. Это был один тюк бесконечных разговоров, которые ведутся собеседниками, как бы для того, чтобы мистифировать друг друга, в которых чуется множество невымолвленных слов, недосказанных речей, в которых предмет спора не формулируется, да и самый спор ведется так, что не оставляет никакой надежды на серьезный вывод. Очевидно, обе стороны смотрят в одну и ту же точку (да и смотреть-то им больше некуда), одну и ту же мысль в голове держат, но почему-то им понадобилось тянуть праздную канитель, высказывать друг другу мнимые возражения, щеголять друг перед другом диалектическими тонкостями и проч.
Я говорил:
— Существовать и постыдно и незачем. Ни в лагере торжествующих, ни в лагере толкущихся — мы одинаково не у места. Мы умеем только жалкие слова говорить, а это и неприлично, и надоело. Стало быть, выход для нас возможен один: стушеваться, уйти.
Глумов возражал:
— Ну, нет, для меня это неясно. Мы уже по тому одному имеем право не исчезать, что в нас воплощается традиция сочувственного отношения к развивающимся запросам жизни. Мы выработали привычку опрятности, а среди всеобщего направления умов в сторону травли — это качество далеко не лишнее!
Через несколько минут разговор опять возвращался к этому пункту, и тот же Глумов говорил:
— Да, голубчик, как ни кинь — все клин. Одни вам говорят: уйдите! вы своим унылым видом только в смущенье приводите! Другие: эге! да вы, никак, слезы проливать собрались! Умирать надо — вот что!
На это уж я возражал:
— Ну, нет, с этим теперь я не согласен! И в нашем существовании есть смысл, которого могут не видеть только люди, преднамеренно ходящие с закрытыми глазами. В нас имеется брезгливость, имеется стыд, который не только может наводить на размышление, но и производить известное практическое действие. Стыд — великое дело, мой друг!
— Великое-то дело великое, да черта ли в том, что ты будешь стыдиться один на один с самим собою, или сам-друг со мною, вот как теперь…
И так далее.
На разговорах этих мы зубы съели. Каждый день мы их начинаем и, по-видимому, даже кончаем; каждый день, по наружности, разнообразим их подкладку задачами самой животрепещущей современности и в то же время внутренно сознаем, что новы тут только ярлыки, за которыми скрывается давно залежавшаяся, покрытая плесенью ветошь… Понятно, что это не успокоивает, а только раздражает.
— А вывод все-таки возможен один: кружимся мы вот в этих четырех стенах, суесловим, острословим, сквернословим — и ничего из этого у нас не выходит! — наконец сказал я, в форме заключения.
По совести, я не могу, впрочем, сказать, что выходило из моих слов: были ли они действительным заключением прежнего разговора, или же, напротив, служили началом разговора нового. Но раздавшийся в передней сильный звонок решил в пользу завершения.
В комнату вошел Алексей Степаныч Молчалин. Я так мало был приготовлен к его визиту, что прежде всего у меня мелькнуло в голове, уж не желает ли он мне сообщить свое мнение насчет высылки Мидхата-паши в места не столь отдаленные. Но, взглянув на него, тут же убедился, что случилось нечто не совсем обыкновенное.
Он был очень бледен; лицо осунулось, нос обострился, углы губ подергивались, глаза были сухи и воспалены.
— Дайте воды — пить хочу! — вымолвил он осиплым голосом, точно слова с трудом выходили из пересохшего горла, — был около вас, и вдруг почувствовал: пить хочу… Не потревожил?
Он жадно выпил стакан воды с вином, потом налил другой, опять выпил, и с минуту не мог отдышаться. Ясно, что его постигла какая-то неприятность, и, судя по тому, что день был будничный и время близилось к двум часам, когда Молчалиных даже нельзя представить себе иначе, как водворенными в соответствующих департаментах, я сначала подумал, что неприятность эта служебного свойства: чего доброго, в отставку велели подать… И вдруг меня словно обожгло. Вспомнилось, как однажды Алексей Степаныч об сыне стужался: «А ну, как он, Павел-то Алексеич мой, что ни на есть сболтнет?» Неужто ж сболтнул?
— Помните, мы намеднись с вами об Павлуше беседовали? — как бы угадывая мою мысль, спросил меня Алексей Степаныч.

























