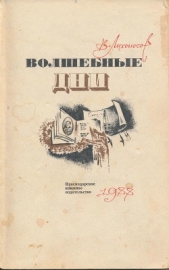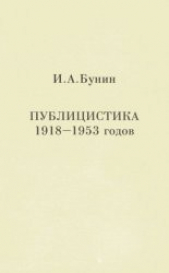Городу и миру

Городу и миру читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
"Когда нам говорят о нравственности, мы говорим: для коммуниста нравственность вся в этой сплоченной солидарной дисциплине и сознательной массовой борьбе против эксплуататоров. Мы в вечную нравственность не верим и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем" (Ленин, ПСС, т. 41, стр. 312-313).
Надо ли снова приводить цитаты, для того чтобы показать, как в творчестве Солженицына торжествуют эти ненавистные для Ленина "сказки" о совести, справедливости, морали, нравственности, выведенные "из велений бога", "из внечеловеческого, внеклассового понятия", "из идеалистических или полуидеалистических фраз ...что очень похоже на веления бога" (сохраняем орфографию Ленина)? В своем отношении к морали и нравственности Ленин и Солженицын - антиподы, представляющие два взаимоисключающих взгляда на них: Ленин - крайний политико-прагматический релятивизм, не ставящий никаких преград ни лжи, ни насилию; Солженицын - оценку всех земных деяний в системе отсчета, проистекающей из высшего, вневременного и безотносительного Божественного Источника.
Можно усмотреть некоторую аналогию в поглощении обоих своими задачами, но задачи эти принципиально различны. Ленин всегда воюет за власть своей партии, за сохранение и укрепление этой власти, и любые исторические экскурсы для него - маневры этой войны. Любой его спор подчинен не отысканию истины, а целям все той же борьбы за власть. Солженицын погружен в историю ради постижения того, что произошло с его страной. Его приковывают к себе веерa возможностей, возникавших перед Россией в критические моменты ее исторического бытия, начиная с эпохи великих реформ Александра II, и он ищет среди этих возможностей ту, которая могла бы уберечь его родину от падения в тоталитарную бездну. Он ищет в прошлом и прообразы возможного будущего. Он видит странное и угрожающее сходство между предреволюционной Россией и нынешним Западом и пытается открыть последнему это сходство, чтобы Запад успел от него уйти. Занятия Солженицына ни в чем не сродни занятиям Ленина, прежде всего политическим. Исследователи и единомышленники писателя не связаны никакой партийной порукой и лишь в немногих случаях знакомы с ним и друг с другом лично. Вполне понятно поэтому недоумение и негодование Солженицына, звучащие в следующих словах:
"И усвоили, и печатно употребляют как самоясное выражение - 'люди Солженицына,' - то есть как будто мною мобилизованы, обучены, и где-то существуют, и тайно действуют страшные когорты. Да очнитесь, господа! Если бы я непрерывно ездил на конференции, как вы все это делаете, всё организовывал бы комитеты, или пристраивался бы к госдепартаментским, как вы этим заняты! - но я заперся на 6 лет для работы и даже трубку телефонную в руки не беру никогда. Да у вас переполох от ненависти и страха" (X, стр. 160).
Замечу, однако, что речь идет ниже далеко не обо всем свободно написанном по-русски с 1950-х гг., а лишь о некоей броской, но не преобладающей части этой большой палитры, когда Солженицын разочарованно заключает:
"Так с удивлением замечаем мы, что наш выстраданный плюрализм - в одном, в другом, в третьем признаке, взгляде, оценке, приеме - как сливается со старыми ревдемами, с "неиспорченным" большевизмом? И в охамлении русской истории. И в ненависти к православию. И к самой России. И в пренебрежении к крестьянству. И - "коммунизм ни в чем не виноват". И "не надо вспоминать прошлое". А вот - и в применении лжи как конструктивного элемента?
Мы думали - вы свежи, а вы - всё те же" (X, стр. 160).
Кто как. И написано, и напечатано неподцензурно за все советские годы по обе стороны то менее, то более плотного государственного рубежа достаточно много непреходяще ценного, для того чтобы плюрализм без кавычек - как принцип разнообразия мнений и свободы самовыражения - был еще раз оправдан. Но только без "применения лжи как конструктивного элемента". К Солженицыну же ложь применяется непрерывно. В своем напряженном писательском уединении, которое граничит с затворничеством, он мало общается с людьми, редко имеет досуг для писем. Может быть, и это плодит обиды и домыслы, предопределяет человеческие потери. Но взятая Солженицыным на себя гигантская творческая задача диктует ему, по-видимому, вынужденную готовность к этим потерям.
( О настоящем и будущем возвращенного Горбачевым в Москву А. Д. Сахарова мы здесь размышлять не станем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Urbi et Orbi
Жизнь продолжается, а в книге необходимо в какой-то момент поставить последнюю точку. Между окончанием книги и ее выходом в свет произойдут многие события, на которые автор уже не сумеет отозваться: книга будет в руках издателей, а затем - читателей. Мы не исследовали в ней ни публицистических книг Солженицына ("Архипелаг ГУЛаг" и "Бодался теленок с дубом"), ни публицистических глав "Красного колеса": для этого понадобились бы годы работы и тома текста. Но и рассмотренное нами свидетельствует: перед нами писатель, чей опыт и чьи мысли об этом опыте бесценны не только для его родины, но и для всего человечества. Отсюда название этой книги: "Городу и миру" - "Urbi et Orbi".
Сегодня на родине Солженицына и во многих странах, следующих или вынужденных следовать советским путем, нельзя открыто читать его книги. Но их можно читать на Западе и во многих странах "третьего мира". И это чтение на соответствующих языках могло бы сослужить человечеству великую пользу, если бы не те предостерегающие от доверия к Солженицыну ярлыки, которые лепят на него поверхностные или недобросовестные ценители его творчества. Я не говорю о полемике по поводу художественных достоинств "Красного колеса", представляющей диаметрально противоположные мнения. Но Солженицына сплошь и рядом изображают реакционером, ретроградом и шовинистом-ксенофобом, в то время как перед нами религиозный моралист, либерал в классическом смысле этого слова и убежденный центрист в политике.
Но понятие "центрист" в приложении к Солженицыну должно быть дополнительно оговорено и осмыслено. Пребывание в центре политического и мировоззренческого спектра данного общества слишком часто связывается в представлении наблюдателей и в реальности с отсутствием четкой позиции, с пассивностью, с колебаниями то вправо, то влево (последнее - чаще, ибо левый край сегодня как правило и активней и массивней правого), с политической бесхарактерностью и расплывчатостью. Солженицын в "Красном колесе" и в публицистике беспощадно обнажил эти качества центристов XX века - российских дооктябрьских (с октября 1917 года началось их истребление и частичное изгнание) и современных западных. Вместе с тем он настойчиво говорит о желательности "средней линии" политического поведения. Что он при этом имеет в виду? Прежде всего - линию очень четкую, самостоятельную, не поддающуюся искажающим инородным влияниям и притом способную учесть и освоить все ценное, что есть в других течениях общественной мысли и политических движениях. Поведение активное и последовательное, цель которого - сочетание устойчивости человеческого и общественного бытия с необходимыми переменами и развитием. Идеал такого центризма - гражданская, личная и экономическая свобода, не переходящая в разрушительную потребительскую эйфорию, в преступное своеволие и разнузданность, терроризирующие нынешний мир.
Солженицыну по душе работоспособный, мускулистый и энергичный центризм (может быть, к нему приближаются, не всегда последовательно, Р. Рейган и М. Татчер), способный реализовать свои идеалы и цели и защитить их от агрессии извне и изнутри своего общества. Основа такого движения для Солженицына духовное просветление, моральное самосовершенствование, неустанный нравственный рост всего общества (каждого человека) на религиозной основе. Но и соответствующее законодательство, и соответствующая линия поведения исполнительной и судебной власти.
У Солженицына нет полной уверенности, что человечество нащупает этот спасительный путь, но у него есть надежда на это. И есть убеждение, что иначе миру сему - погибель.