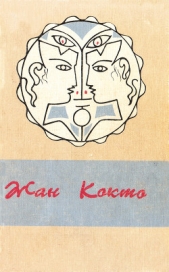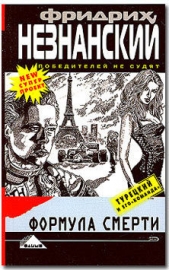Собрание сочинений. Том 4

Собрание сочинений. Том 4 читать книгу онлайн
Варлам Тихонович Шаламов родился в Вологде. Сын священника. Учился на юрфаке МГУ в 1926–1929 годах. Впервые был арестован за распространение так называемого Завещания Ленина в 1929-м. Выйдя в 1932-м, был опять арестован в 1937-м и 17 лет пробыл на Колыме. Вернувшись, с 1957 года начал печатать стихи в «Юности», в «Москве». В его глазах была некая рассеянная безуминка неприсутствия. Наверно, потому что он в это время писал свои «Колымские рассказы» и даже на свободе продолжал оставаться там, на Колыме. Эти рассказы начали ходить из рук в руки на машинке года с 1966-го и вышли отдельным изданием в Лондоне в 1977 году. Шаламова заставили отречься от этого издания, и он написал нечто невразумительно-унизительное, как бы протестуя. Он умер в доме для престарелых, так и не увидев свою прозу напечатанной. (Она вышла в СССР лишь в 1987-м.) Это великая «Колымиада», показывающая гениальное умение людей сохранить лик своей души в мире лагерного обезличивания. Шаламов стал Пименом Гулага, но и добру внимая отнюдь неравнодушно, и написал ад изнутри, а вовсе не из белоснежной кельи.
В четвертый том Собрания сочинений В.Т. Шаламова вошли, автобиографическая повесть о детстве и юности «Четвертая Вологда», антироман «Вишера» о его первом лагерном сроке, эссе о стихах и прозе, а также письма к Б.Л. Пастернаку и А.И. Солженицыну.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А если бы заглянул, увидел бы, что по своим качествам, физическим и моральным, по праву на карьеру, на успех, по беззаветной способности показать личный пример — Сергей для нашего города не менее яркая и не менее характерная фигура, чем отец — того же нравственного ряда, но физического, а не духовного порядка.
Здесь я продолжаю рассказ о педагогических воззрениях отца, с которыми столкнулся и не согласился его третий сын — я.
Было ясно, что я поглощаю и способен проглотить огромное количество книг.
Но книг-то у отца и не оказалось. Кроме справочников по животноводству и профессиональных требников в книжном шкафу отца не было (ничего).
И это одно из самых поразительных моих детских открытий.
Книжный шкаф красного дерева, который так выгодно был продан в годы голода, выменян на целый пуд муки, не скрывал за собой никаких книжных сокровищ.
Ни Достоевского, ни Шекспира не было в библиотеке отца. Но был Розанов — «Легенда о великом инквизиторе» — и это все. Кто-то сюда же поставил «Войну и мир», переводы Михайлова, Гейне в переводах Вейнберга, однотомник Жуковского. Но это были все не отцовские книги. Старшие мои братья и сестры удовлетворялись хрестоматией Галахова.
Я помню чей-то разговор, чей-то вопрос по этому поводу. А может, я этот разговор и вопрос выдумал сам. И отцовский ответ.
«Передовая русская интеллигенция должна удовлетворяться народной библиотекой. Кропоткин и Лавров для этого и жертвовали свои книги и библиотеки, чтобы каждый мог пользоваться. Мой сын может пользоваться».
К счастью, мне удалось получить разрешение на получение книг в новой «Рабочей библиотеке» — образованной из конфискованных помещичьих библиотек. Там я досыта начитался Дюма, Буссенара, Жакоба, капитана Марриэта.
Наиболее ценные книги шли в Публичную библиотеку.
Но и этого было, конечно, мало, хотя я читал дни и ночи напролет. К счастью, у нас никогда не запрещали читать за столом во время обеда и ужина.
Отец читал газеты, журналы. Мне, конечно, сейчас же выписали журнал «Семья и школа», но я давно очень далеко ушел в чтении вперед, и «Семья и школа» могли только льстить тщеславию моего отца.
В это время, кроме быстрого чтения, я открыл в себе еще одну способность, о которой не знали и не подозревали ни отец, ни мать, ни сестры.
Лет примерно восьми с помощью так называемых фантиков — сложенных в конвертики конфетных обложек — легко проигрывал для себя содержание прочитанных мною романов, рассказов, исторических работ, а впоследствии и своих собственных рассказов и романов, которые не дошли до бумаги и не предполагалось, что дойдут. Это оказалось в высшей степени увлекательным занятием в виде литературного пасьянса. Я играл в эти фантики сам с собой несколько лет — тюрьма Бутырская, кажется, остановила эту игру.
Мы жили очень тесно. Мое место было последним, а мир фантиков был моим собственным миром, миром видений, которые я мог создавать в любое время.
Сестры, да и мать думали, что я таким способом зубрю или учу уроки. Но никаких уроков с помощью этих фантиков я не учил. Я увез коробку фантиков в Москву, и только после моего первого ареста сестра, уничтожая всю мою жизнь — все мои архивы, — сожгла и эту драгоценную коробку вместе с моими дневниками и письмами.
Так вот, отключаться в этот мир мне было очень легко, и, в сущности, все читанные мною книги я с помощью фантиков повторил.
Отец уже начинал слепнуть, и то, что я не занимаюсь, читаю только за обедом, раздражало отца. Он пытался иногда вмешаться в этот мир.
— Что ты делаешь?
— Читаю.
Все мы трое мать, отец и я — сидим очень тесно у керосиновой лампы семилинейной, в ее керосиновых лучах я ловлю буквы, перелистывая толстую книгу.
— Что ты читаешь?
— Книгу.
— Какого автора?
— Понсон дю Террайля.
— Как называется?
— «Похождения Рокамболя».
Отец встает, и мне следует выволочка и длительное объяснение, что чтение таких книг не приведет к добру.
— Мой сын должен читать Канта и Шеллинга, — важно говорит отец, — а не Понсон дю Террайля, не Конан Дойля.
Отец что-то думает и выносит решение в своем энергическом стиле:
— Надо сходить к дяде Коле.
Дядя Коля — старший брат матери, единственный ее родственник, с которым у отца хорошие отношения. Дядя Коля — чиновник Казенной палаты. У него свой дом двухэтажный. Жена его давно умерла, а жена, которая жила с ним без венца, — хозяйка местной типографии, тоже приятельница отца. Она умерла первой, и отец служил панихиду на ее могиле.
Дядя Коля одинок в большом новом двухэтажном доме. Оба этажа — в стеллажах действительно большой библиотеки тысячи на две, а то и на три тысячи названий. Дядя Коля выписывает много журналов самых передовых, ведет дневники — каллиграфическим почерком, сочиняет сатирические стихи, обличающие местное начальство.
Мать показывала мне дяди Колину эпиграмму на очередного губернатора.
Эта эпиграмма закончила служебную карьеру дяди. Тогдашний «самиздат» работал достаточно проворно и с хорошей отдачей.
Мать показывала мне несколько дядиных поэм и в более приличном, несколько мечтательном и вполне самокритичном роде.
Не только любителем литературы, дядя был и квалифицированным судьей тоже.
— Вот Андерсен.
— Это все я читал.
— Ну, лишний раз прочтешь, — миролюбиво сказал отец.
— А Канта?
— Да! Вот стоит у вас «Критика чистою разума».
— Это тебе еще рано, — сказал отец.
— Видите, какие проблемы, — сказал дядя Коля неуверенно.
— Ну, вот что, Николай Александрович, — сказал отец, поднимаясь уходить. — Я зачем к вам — жизнь есть жизнь. Оставьте вашу библиотеку Варламу.
— Охотно, — сказал дядя Коля с улыбкой. — Можешь считать себя наследником моей библиотеки.
Меня покоробило от бесцеремонности отца. Но разговор был весь в его стиле.
Случилось так, что Галя — красавица и скромница — скоропалительно вышла замуж вовсе не в ту семью, о которой думал отец, — за сына местного жандармского офицера. Муж ее дослужился до штабс-капитана, был ранен и отсиживался в Вологде.
Молодые искали квартиру, и дядя Коля предложил отцу поселить их у себя. В ту же зиму дядя Коля умер от инсульта, а муж сестры продал все книги букинистам, кроме томов энциклопедий Брокгауза и Граната. У дяди было несколько словарей, которые сестра и муж сожгли зимой, не заботясь о покупке дров.
Это потрясло отца, и он проклял дочь. Разумеется, тут дело не в продаже букинистам, не в краже, а именно в сожжении, в физическом участии дочери в таком варварском акте.
С этого часа и до самой смерти Галя в Вологду не являлась. И никакие материнские мольбы не могли изменить отцовского решения.
Это был тот самый муж, который выдавал Гале рубль в день на хозяйство в течение нескольких лет, пока она не бросила его и не уехала в Сухум со своим вторым мужем.
Старший сын Валерий был человек, раздавленный отцом, — первое из его многочисленных семейных разочарований. Любитель-художник, вернее, рисовальщик, достигший немалой искусности в выпиливании по дереву по готовым рисункам. Эти рисунки, к позору брата, украшали его стену в братской комнате (проходной).
В юности отец дал ему возможность съездить в Третьяковку, к передвижникам, конечно, ибо другой живописи для отца не существовало.
Визит этот краткий не дал желаемого результата. Вообще отец практиковал своеобразный педагогический прием: любого знакомить с любым искусством — хоть с эстрадой, хоть с цирком, с модерновыми стихами и Четьи-Минеями, с живописью и философией, с животноводством и огородничеством, охотой и плаваньем.