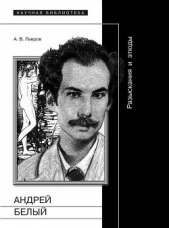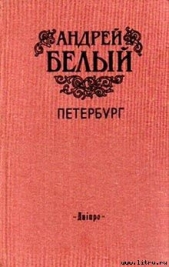Петербург. Стихотворения (Сборник)

Петербург. Стихотворения (Сборник) читать книгу онлайн
Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) – одна из ключевых фигур Серебряного века, оригинальный и влиятельный символист, создатель совершенной и непревзойденной по звучанию поэзии и автор оригинальной «орнаментальной» прозы, высшим достижением которой стал роман «Петербург», названный современниками не прозой, а «разъятой стихией». По словам Д.С.Лихачева, Петербург в романе – «не между Востоком и Западом, а Восток и Запад одновременно, т. е. весь мир. Так ставит проблему России Белый впервые в русской литературе».
Помимо «Петербурга» в состав книги вошли стихотворения А.Белого из сборников «Золото в лазури», «Пепел» и поэма «Первое свидание».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И головки там в окнах пропали.
………………………
Здесь, в кабинете высокого Учреждения, Аполлон Аполлонович воистину вырастал в некий центр: в серию государственных учреждений, кабинетов и зеленых столов (только более скромно обставленных). Здесь он являлся силовой излучающей точкою, пересечением сил и импульсом многочисленных, многосоставных манипуляций. Здесь Аполлон Аполлонович был силой в ньютоновском смысле; а сила в ньютоновском смысле, как, верно, неведомо вам, есть оккультная сила.
Здесь был он последней инстанцией – донесений, прошений и телеграмм.
Инстанцию эту в государственном организме он относил не к себе: к заключенному в себе центру – к сознанию.
Здесь сознание отделялось от доблестной личности, проливаясь вокруг между стен, проясняясь невероятно, концентрируясь со столь большой силой в единственной точке (меж глазами и лбом), что казалось, невидимый, беленький огонек, вспыхнувши между глазами и лбом, разбрасывал вокруг снопы змеевидных молний; мысли-молнии разлетались, как змеи, от лысой его головы; и если бы ясновидящий стал в ту минуту пред лицом почтенного мужа, без сомнения пред собой он увидел бы голову Горгоны медузы.
И медузиным ужасом охватил бы его Аполлон Аполлонович.
Здесь сознание отделялось от доблестной личности: личность же с пучиною всевозможных волнений (сего побочного следствия существованья души) представлялась сенатору как черепная коробка, как пустой, в данную минуту опорожненный, футляр.
В Учреждении Аполлон Аполлонович проводил часы за просмотром бумажного производства: из воссиявшего центра (меж глазами и лбом) вылетали все циркуляры к начальникам подведомственных учреждений. И поскольку он, вот из этого кресла, сознанием пересекал свою жизнь, постольку же его циркуляры, из этого места, секли в прямолинейном течении чресполосицу обывательской жизни.
Эту жизнь Аполлон Аполлонович сравнивал с половой, растительной или всякой иною потребностью (например, с потребностью в скорой езде по петербургским проспектам).
Выходя из холодом пронизанных стен, Аполлон Аполлонович становился вдруг обывателем.
Лишь отсюда он возвышался и безумно парил над Россией, вызывая у недругов роковое сравнение (с нетопырем). Эти недруги были – все до единого – обыватели; этим недругом за стенами был он себе сам.
Аполлон Аполлонович был сегодня особенно четок: на доклад не кивнула ни разу его голая голова; Аполлон Аполлонович боялся выказать слабость: при исправлении служебных обязанностей!.. Возвыситься до логической ясности было ему сегодня особенно трудно: бог весть почему, Аполлон Аполлонович пришел к заключению, что собственный его сын, Николай Аполлонович, – отъявленный негодяй.
………………………
Окно позволяло видеть нижнюю часть балкона. Подойдя к окну, можно было видеть кариатиду подъезда: каменного бородача.
Как Аполлон Аполлонович, каменный бородач приподымался над уличным шумом и над временем года: тысяча восемьсот двенадцатый год освободил его из лесов. Тысяча восемьсот двадцать пятый год бушевал под ним толпами; проходила толпа и теперь – в девятьсот пятом году. Пять уже лет Аполлон Аполлонович ежедневно видит отсюда в камне изваянную улыбку; времени зуб изгрызает ее. За пять лет пролетели события: Анна Петровна – в Испании; Вячеслава Константиновича – нет; желтая пята дерзновенно взошла на гряды высот порт-артурских; проволновался Китай и пал Порт-Артур.
Собираяся выйти к толпе ожидавших просителей, Аполлон Аполлонович улыбался; улыбка же происходила от робости: что-то ждет его за дверьми.
Аполлон Аполлонович проводил свою жизнь меж двумя письменными столами: между столом кабинета и столом Учреждения. Третьим излюбленным местом была сенаторская карета.
И вот: он – робел.
А уж дверь отворилась; секретарь, молодой человек, с либерально как-то на шейном крахмале бьющимся орденком подлетел к высокой особе, почтительно щелкнувши перекрахмаленным краем белоснежной манжетки. И на робкий вопрос его загудел Аполлон Аполлонович:
– «Нет, нет!.. Сделайте, как я говорил… И знаешь ли», – сказал Аполлон Аполлонович, остановился, поправился:
– «Ти ли…»
Он хотел сказать «знаете ли», но вышло: «знаешь ли… ти ли…»
О его рассеянности ходили легенды; однажды Аполлон Аполлонович явился на высокий прием, представьте, – без галстуха; остановленный дворцовым лакеем, он пришел в величайшее смущение, из которого его вывел лакей, предложивши у него заимствовать галстух.
Аполлон Аполлонович Аблеухов в сером пальто и в высоком черном цилиндре, с каменным лицом, напоминающим пресс-папье, быстро выбежал из кареты и вбежал на ступени подъезда, на ходу снимая черную замшевую перчатку.
Быстро вошел он в переднюю. Цилиндр с осторожностью передался лакею. С тою же осторожностью отдались: пальто, портфель и кашне.
Аполлон Аполлонович в раздумье стоял пред лакеем; вдруг Аполлон Аполлонович обратился с вопросом:
– «Будьте любезны сказать: часто ли здесь бывает молодой человек – да: молодой человек?»
– «Молодой человек-с?»
Наступило неловкое молчание: Аполлон Аполлонович не умел иначе формулировать свою мысль. А лакей, конечно, не мог догадаться, о каком молодом человеке спрашивал барин.
– «Молодые люди бывают, вашество, редко-с…»
– «Ну, а… молодые люди с усиками?»
– «С усиками-с?»
– «С черными…»
– «С черными-с?»
– «Ну да, и… в пальто…»
– «Все приходят-с в пальто…»
– «Да, но с поднятым воротником…»
Что-то вдруг осенило швейцара.
– «А, так это вы про того, который…»
– «Ну да: про него…»
– «Был однажды такой-с… заходил к молодому барину: только они были уж давненько; как же-с… наведываются…»
– «Как так?»
– «Да как же-с!»
– «С усиками?»
– «Точно так-с!»
– «Черными?»
– «С черными усиками…»
– «И в пальто с поднятым воротником?»
– «Они самые-с…»
Аполлон Аполлонович постоял с минуту как вкопанный и вдруг: Аполлон Аполлонович прошел мимо.
Лестницу покрывал бархатный серый ковер; лестницу обрамляли, конечно, тяжелые стены; бархатный серый ковер покрывал стены те. На стенах разблистался орнамент из старинных оружий; а под ржаво-зеленым щитом блистала своим шишаком литовская шапка; искрилась крестообразная рукоять рыцарского меча; здесь ржавели мечи; там – тяжело склоненные алебарды; матово стены пестрила многокольчатая броня; и клонились – пистоль с шестопером.
Верх лестницы выводил к балюстраде; здесь с матовой подставки из белого алебастра белая Ниобея поднимала горе алебастровые глаза.
Аполлон Аполлонович четко распахнул пред собою дверь, опираясь костлявой рукой о граненую ручку: по громадной зале, непомерно вытянутой в длину, раздавалась холодно поступь тяжелого шага.
Над пустыми петербургскими улицами пролетали едва озаренные смутности; обрывки туч перегоняли друг друга.
Какое-то фосфорическое пятно и туманно, и мертвенно проносилось по небу; фосфорическим блеском протуманилась высь; и от этого проблистали железные крыши и трубы. Протекали тут зеленые воды Мойки; по одной ее стороне то же высилось все трехэтажное здание о пяти своих белых колоннах; наверху были выступы. Там, на светлом фоне светлого здания, медленно проходил Ее Величества кирасир; у него была золотая, блиставшая каска.
И серебряный голубь над каской распростер свои крылья.
Николай Аполлонович, надушенный и выбритый, пробирался по Мойке, запахнувшись в меха; голова упала в шинель, а глаза как-то чудно светились; в душе – поднимались там трепеты без названья; что-то жуткое, сладкое пело там: словно в нем самом разлетелся на части буревой эолов мешок и сыны нездешних порывов на свистящих бичах в странные, в непонятные страны угоняли жестоко.
Думал он: неужели и это – любовь? Вспомнил он: в одну туманную ночь, выбегая стремительно из того вон подъезда, он пустился бежать к чугунному петербургскому мосту, чтобы там, на мосту…