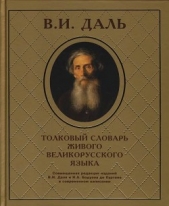Двое в барабане

Двое в барабане читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Видимо, вечером это стало известно Сталину. Он, не откладывая в долгий ящик, тут же позвонил Фадееву.
Дело в том, что после 25 января, когда Булгаков окончательно слег, его пытались навещать по "линии писательского профкома" представители литературной верхушки с "банкой варенья и яблоками в кульке". Но разговора не получилось. Одного классика велел жене гнать вон.
Теперь, по мнению Сталина, наступил момент выказать свое расположение, пусть не лично, а через Фадеева. Михаил Афанасьевич - умница. Все поймет как надо.
Так Фадеев оказался в знаменитой "нехорошей" квартире на Садовой. К этому моменту он уже прочитал рукопись последнего романа и некоторые главы знал почти дословно.
Но проницательный автор при всем его воображении не мог предположить, что порог его пропахшей лекарствами комнаты переступал не Первый секретарь ССП, член ЦК правящей партии, а покоренный речами Иешуа скромный сборщик податей в шумном городе Ершалаиме Левий Матвей.
Никому не дано определить, сколько раз, читая и перечитывая роман, тогда и потом, бывший партизан, ортодоксальный большевик, повторял вслух и про себя нетипичное для него слово: "Гениально, гениально", - глотая горькие слезы.
Но факт такого признания документально подтверждает жена Мастера Елена Сергеевна Булгакова!
Крупный, краснолицый с мороза Фадеев старался втиснуться в стул, испытывая неловкость рядом с припухшим, серолицым Булгаковым. Но нездоровье не изменило выражения глаз писателя. Они почему-то сразу признали Фадеева и, по выражению поэтессы Веры Инбер, сияли, как бриллианты. Фадеев отвечал тем же! Его серые, умеющие уже быть стальными, глаза тоже сияли, по утверждению той же Веры Инбер, как бриллианты.
Случилось, как в романе, при первой встрече Мастера и Маргариты. "Они разговаривали так, как будто расстались вчера, как будто знали друг друга много лет". Естественно, не любовь, но глубокая симпатия "выскочила перед ними, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила... сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож!"
Чем другим объяснить доверительность и искренность беседы двух, еще вчера незнакомых, зрелых людей, прошедших разную, но суровую жизнь?
Разговор поначалу касался, в основном, двух тем. Поездки, по предложению товарища Сталина, на юг Италии для лечения и, естественно, романа.
Опять же, какая-то необъяснимая чертовщина проглядывалась. Пришел к Мастеру, фактически, по должности тот самый Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления МАССОЛИТа, сподвижник его гонителей, критиков Латунского, Аримана, Лавровича, но не хулил рукопись, а говорил о ней, не останавливаясь, только в превосходной степени, забыв о занимаемой должности и собственном месте в советской литературе.
Как и Михаил Афанасьевич, по складу характера Фадеев не терпел лжи ни в малом, ни в большом.
Таким его, очевидно, разглядел Булгаков.
Бесспорно, в сороковом году Фадеев был еще далек от того состояния, которое испытал Мастер и так точно описал в романе.
Александр Александрович был полон сил. Возглавлял ССП. Работал над "Удэге". Его, в отличие от Булгакова, открыто любил Сталин.
Больной для Мастера вопрос об отношениях художника и власти не затрагивал автора "Разгрома" ни с какой негативной стороны.
Его лишь пару раз пожурили, погрозив пальцем.
Он сам был власть.
Но не один лишь строй и язык романа впечатлили Фадеева. Не только гоголевская фантазия и несравненный юмор.
Уже обозначились болевые точки, по которым ударили размышления Мастера и усилили впечатление от книги.
Вероятно, лучших страниц булгаковского романа достойна невообразимая ситуация, когда главный писатель и опальный автор на равных горюют о судьбе романа, который "никак нельзя печатать". Оба до конца сознают причины, но именно Булгаков выкладывает, без малейшей иронии, те резоны, что не дают этому оснований.
А Фадеев, наоборот, пытается доказать, что в романе больше пользы, чем вреда.
Разве у Воланда и большевиков не одни и те же задачи: избавиться от стяжательства и мещанства, покарать зло и подлость. И товарищу Сталину близки и понятны эти страницы. Ему по душе сатирические картины писательской шатии - всех этих любителей супа-прентаньер, филейчиков из дроздов, судачков о-натюрель и прочей барской дряни. Разве не товарищ Сталин прикрыл РАПП, как Бегемот и Коровьев спалили "дом Грибоедова"?
Фадеев не решается произнести вслух, но ему так хочется спросить: нельзя ли сблизить позиции? Сместить акценты, иначе осветить некоторые фигуры. Так хочется увидеть гениальный роман напечатанным сегодня.
Булгаков будто угадывает мысли Фадеева и отвечает на них: "А вообще, как по Шекспиру: терзать могут, но играть на вас - ни в коем случае. В СССР я был единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру". Опережая вопрос Фадеева, махнул рукой: "Нет, нет, не он".
Продолжал, будто отвечая кому-то: "Нелепый совет. Крашеный волк, стриженый ли волк, он все равно не похож на пуделя! Со мной поступили, как с волком. Загнали бы, если б могли".
Все происходит доподлинно, как в булгаковском романе. Красивый, скульп-турный Фадеев осторожненько перебирается со стула на краешек кровати Мастера, вопросительно поглядывая на Елену Сергеевну: можно ли? Только теперь не Мастер рассказывал свою историю поэту Ивану Бездомному, а писатель Фадеев исповедовался Мастеру.
Почти на ухо, как Мастер Ивану, Фадеев торопился выговориться: "Вы не представляете, как мне бывает трудно. А главное, я все время мешал себе как писателю".
Вероятно, Фадееву собственные слова казались удивительными, и он хотел быть услышанным. Поэтому то и дело спрашивал: "Вы меня понимаете?"
"Писал урывками, на бегу. Вот и "Удэге" лежит до сих пор неоконченный. А ведь не ленив.
Некоторые главы "Разгрома" переписывал по 13-15 раз".
Волосы все время падали Фадееву на лицо, и он поминутно забрасывал их назад.
Кто ему был Булгаков? Единомышленник? Товарищ партизанской юности? Куда подевались классовая настороженность и чувство служебной дистанции? Он говорил, позабыв правила и условности. Спрашивал у Булгакова: "Тогда как же назвать мое состояние?" И отвечал безо всякой к себе жалости: "Самопредательство, черт возьми". Отметая всякое сочувствие, вскочив с койки, добивал себя: "Писателю все можно простить - двоеженство, кражу, даже убийство, только не это! Не самопредательство".
Снова спрашивал, переменив тон, почти шепотом: "Вы согласны? Вы понимаете, о чем я говорю?"
Булгакову не надо было задумываться над ответом. Фадеев услышал то, чего ждал, к чему, по-своему, стремился сам.
"Цилиндр мой я с голодухи на базар снесу, - говорил Мастер, чуть медленней, чем всегда. - Но сердце и мозг не понесу на базар, хоть подохну. Не верю в светильник под спудом. Рано или поздно писатель все равно скажет то, что хочет сказать.
Главное, не терять достоинства!"
Какими занозами оставались в голове у Фадеева эти слова...
Прощаясь, Михаил Афанасьевич задержал руку Фадеева в своей. Не отводя глаз, сказал просто, как о повседневном: "Александр Александрович, я умираю. Говорю это как врач. Если задумаете издавать роман - жена все знает".
С трудом сдерживая волнение, Фадеев сказал совсем не то, что говорят в подобных случаях. Не литературный сановник, а сорокалетний подросток вдруг произнес высоким фальцетом: "Михаил Афанасьевич, вы жили мужественно и умрете мужественно!"
Слезы залили ему лицо. Он вскочил, забыв шапку, и "загрохотал" по лестнице.
Странную картину могли наблюдать москвичи в один из ранних февральских вечеров 1940 года. По тротуару почти бежал высокий седой мужчина без шапки, в распахнутой шубе с бобровым воротником, с мокрым от слез лицом. Он явно не замечал прохожих, повторяя не понятную никому фразу: "Чудовищно, чудовищно, что я до сих пор его не знал!"
Вдруг ему отчетливо показалось, что он слышит голос, окликающий его: "Саша, Саша!" Обернувшись, сквозь крупные хлопья липкого снега заметил метрах в двадцати сзади странную фигуру, одетую не по погоде, без шапки, в гимнастерке и галифе. Он сразу узнал Мечика. Уходя от Булгакова, почему-то подумал, что он появится сегодня непременно.
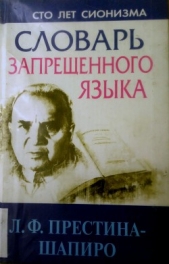
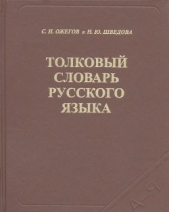
![Русский орфографический словарь [А-Н]](/uploads/posts/books/80754/80754.jpg)