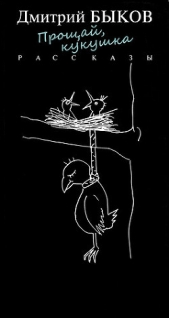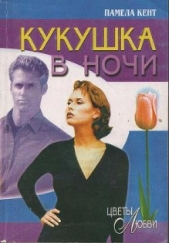Сивцев Вражек
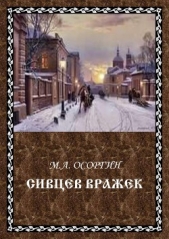
Сивцев Вражек читать книгу онлайн
Я познакомился с Осоргиным в Риме в 1908 году. Он жил за Тибром, не так далеко от Ватикана, в квартире на четвертом или шестом этаже. Изящный, худощавый блондин, нервный, много курил элегантно разваливаясь на диване, и потом вдруг взъерошит волосы на голове, станут они у него дыбом, и он делает страшное лицо.
Был он в то время итальянским корреспондентом «Русских ведомостей», московской либеральной газеты, очень серьезной. Считался политическим эмигрантом (императорского правительства), но по тем детским временам печатался свободно и в Москве, и в Петербурге («Вестник Европы» - первые его беллетристические опыты)...
...В революцию Михаил Андреевич вернулся в Москву, и в 21-м году меня уже выручил: устроил в Кооперативную Лавку Писателей на Никитской, чем избавил от службы властям и дал кусок хлеба. Но в 22-м году он, с группой писателей и философов, выслан был окончательно за границу. Стал окончательно эмигрантом - и занялся беллетристикой в гораздо большей степени, чем раньше. Собственно, здесь он и развернулся по-настоящему, как писатель. Главное свое произведение «Сивцев Вражек», роман, начал, впрочем (если не ошибаюсь), еще в Москве, но выпустил уже за границей. Роман имел большой успех. И по-русски, и на иностранных языках - переведен был в разных странах. Вышли и другие книги его тоже здесь: «Там, где был счастлив» в 1928 году в Париже, «Повесть о сестре», «Чудо на озере», «Книга о концах», «Свидетель истории» и пр.
Оказался он писателем-эмигрантом, сугубо эмигрантом: ничто из беллетристики его не проскочило за железный занавес, а тянуло его на родину, может быть, больше, чем кого-либо из наших писателей...
Б.К. ЗАЙЦЕВ (из воспоминаний).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда утром Дуняша вынесла на помойку загрызенную крысу, дворник сказал:
- Вон какую одолел! Ну и Васька! Ей все сто годов будет.
Годами крыса была моложе человеческого подростка. Возрастом - заела век молодых.
К кофе никто не вышел. Профессор сидел в кресле у постели Аглаи Дмитриевны. Сиделка дважды подходила, оправляла складки. Танюша смотрела большими удивленными глазами на разглаженные смертью морщины восковой бабушки. Руки старушки были сложены крестом, и пальчики были тонки и остры.
Сиделка не знала, нужно ли вставить челюсть,- и спросить не решалась. А так подбородок слишком запал. Челюсть же лежала в стакане с водой и казалась единственным живым, что осталось от бабушки.
По бороде профессора катилась слеза; повисла на завитушке волоса, покачалась и укрылась вглубь. По тому же пути, но уже без задержки, сбежала другая. Когда дедушка всхлипнул, Танюша перевела на него глаза, покраснела и вдруг припала к его плечу. В этот миг Танюша была маленьким молочным ребенком, личико которого ищет теплоты груди: в этом новом мире ему так страшно; она никогда не слушала лекций по истории, и мысль ее лишь училась плавать в соленом растворе слез. В этот миг ученый орнитолог был маленьким гномом, отбивавшимся ножками от злой крысы, напрасно обиженным, искавшим защиты у девочки-внучки, такой же маленькой, но, наверно, храброй. И полмира заняла перед ними гигантская кровать нездешней старухи, мудрейшей и резко порвавшей с ними. В этот миг солнце потухло и рассыпалось в одной душе, рушился мостик между вечностями, и в теле, едином-бессмертном, зачалась новая суетливая работа.
У постели Аглаи Дмитриевны остались два ребенка, совсем старый и совсем молодой. У старого ушло все; у молодого осталась вся жизнь. На окне в соседней комнате кошка облизывалась и без любопытства смотрела на муху, лапками делавшую туалет перед полетом.
Событие настоящее было только в спальне профессорского домика в Сивцевом Вражке. В остальном мире было все благополучно: хотя тоже пресеклись жизни, рождались существа, осыпались горы,- но все это делалось в общей неслышной гармонии. Здесь же, в лаборатории горя, мешалась мутная слеза со слезой прозрачной.
Только здесь было настоящее:
Бабушка умерла любимой.
...земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, яко же повелел еси, создавый мя и рекий ми: яко земля еси и в землю отыдеши, амо же вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуйа... [10]
НОЧЬ
Два крыла распластала ночная птица над домом старого вдового птичьего профессора. И закрыла звездный блеск и лунный свет. Два крыла: оградить его от мира, почтить великую старикову печаль.
В кресле, удобно просиженном, в ореоле седин, затененных от лампы,- и тихо-тихо кругом, от здешней думы до границ Мира,- сидит старый старик, на тысячи лет старше вчерашнего, когда еще слабым дыханьем цеплялась за жизнь Танина бабушка, Аглая Дмитриевна. А в зале, где блестящими ножками смотрит рояль на у гроба горящие свечи, ровным внятным голосом, спокойным ручьем льет монахиня журчащую струю слов важных, ненужных безмолвной слушательнице под темной парчой. И плотно придвинут к носу подбородок покойной.
Весь в памяти профессор, весь в прошлом. Смотрит в глубь себя и почерком мелким пишет в мыслях за страницей страницу. Напишет, отложит, вновь перечтет написанное раньше, сошьет тетрадки крепкой суровой ниткой,- и все не дойдет до конца своей житейской повести, до новой встречи. Не верит, конечно, в соединение в новом бытии,- да и не нужно оно. А в небытии уже скоро оно будет. Считаны годы, дни и часы - и часы, и дни, и годы уходят. Ибо прах ты - и в прах возвратишься.
Стены книг и полки писаний,- все было любимым и все плод жизни. Уйдет и это, когда "она" позовет. И видит ее молоденькой девушкой,- ямочкой на щечке смеется, кричит ему поверх ржаной полосы:
- Обойдите кругом, нельзя мять! А я, так и быть, подожду.
И пошли межой вместе... а где и когда это было? И чем - не светом ли солнечным так запомнилось?
И вместе шли - и пришли. Но теперь не подождала - ушла вперед. И опять он, теперь стариковской походкой, обходит полосу золотой ржи...
Вошла Танюша в халатике и спальных туфлях. Нынче ночью не спят. Ночная птица над домом огородила деда и внучку от прочего Мира. В этом маленьком мире печаль не спит.
- Без бабушки будем теперь жить, Танюша. А привыкли жить с бабушкой. Трудно будет.
Танюша у ног, на скамеечке, головой у дедушки на коленях. Мягкие косы не заколола, оставила по плечам.
- Чем была бабушка хороша? А тем была хороша, что была к нам с тобой добрая. Бабушка наша; бедная.
И долго сидят, уже выплакались за день.
- Спать-то не выходит, Танюша?
- Мне, дедушка, хочется с вами посидеть. Ведь и вы не спите... А если приляжете, хоть на диван, я все равно около посижу. Прилегли бы.
- Прилягу; а пока ссиделся как-то, может, так и лучше.
И опять долго молчат. Этого не скажешь, а вдвоем мысль общая. Когда через стены доносится журчанье словесных монахини струй,- видят и свечи, и гроб, и дальше ждут усталости. Так добра к ним обоим была бабушка, теперь лежащая в зале, под темной парчой,- и вокруг пламенем дрожащие свечи.
Входят в мир через узкую дверь, боязливые, плачущие, что пришлось покинуть покоящий хаос звуков, простую, удобную непонятливость; входят в мир, спотыкаясь о камни желаний,- и идут толпами прямо, как лунатики, к другой узкой двери. Там, перед выходом, каждый хотел бы объяснить, что это ошибка, что путь его лежал вверх, вверх, а не в страшную мясорубку, и что он еще не успел осмотреться. У двери - усмешка, и щелкает счетчик турникета.
Вот и все.
Сна нет, но нет и ясности образов. Между сном и несном слышит старик девичий голос по ту сторону последней двери:
- Я подожду здесь...
Пойти бы прямо за ней, да нельзя рожь мять. И все залито солнцем. И спешит старик узкой межой туда, где она ждет, протянув худые руки.
Открыл глаза - и встретил большие, вопрошающие лучи-глаза Танюши:
- Дедушка, лягте, отдохните!
САПОГИ
Дворник Николай сидел в дворницкой и долго, внимательно, задумчиво смотрел на сапоги, лежавшие перед ним на лавке.
Случилось странное, почти невероятное. Сапоги были не сшиты, а построены давно великим архитектором-сапожником Романом Петровым, пьяницей неимоверным, но и мастером, каких больше не осталось с того дня, как Роман в зимнюю ночь упал с лестницы, разбил голову и замерз, возвратив куда следует пьяную свою душу. Николай знал его лично, строго осуждал за беспробудное пьянство, но и почтительно удивлялся его таланту. И вот, сапоги Романовой работы кончились.
Не то чтобы кончились они совсем нежданно. Нет, признаки грозящей им старости намечались раньше, и не один раз. Три пары каблуков и две подошвы переменил на них Николай. Были на обеих ногах и заплаты в том месте, где на добром кривом мизинце человека полагается быть мозоли. Одна заплата - от пореза сапога топором; Николай едва не отхватил тогда полпальца, да спасла крепкая кожа. Другая заплата на месте, протершемся от времени. И каблуки и подошвы менял еще сам Роман. В последний раз он поставил Николаю на новый каблук такую здоровенную подкову, что обеспечил целость каблука на многие годы вперед. И в подошвы набил по десятку кованых гвоздей с толстыми шляпками, а сбоку приспособил по чугунной планке. Стали сапоги пудовыми, тяжелыми, громкими,- но с тех пор о сносе их Николай забыл думать.
И как это случилось - неизвестно, но только пришлось однажды в день оттепели сменить валенки на сапоги. Николай достал их из ящика близ печки, где они лежали, аккуратно с осени намазанные деревянным маслом, чтобы не треснула кожа. Достал - и увидал, что подошва на обеих ногах отстала, на одной совсем, на другой поменьше, а среди гвоздяных зубьев была одна труха, и была дыра сквозная. Николай погнул подошву - и дыра пошла дальше, без скрипу. И тут он увидал впервые, что и голенище так износилось, что просвечивает, а тыкнешь покрепче пальцем - получается горбик, и не выправляется.