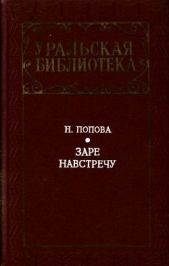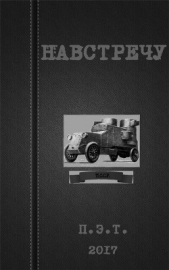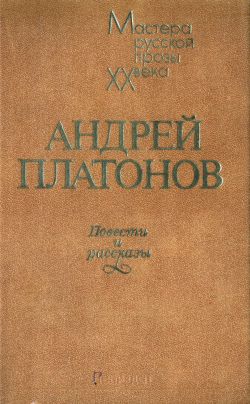Заре навстречу

Заре навстречу читать книгу онлайн
События романа Вадима Кожевникова "Заре навстречу" разворачиваются во время, непосредственно предшествующее Великой Октябрьской социалистической революции, и в первые месяцы существования Советской власти. Судьба героя, Тимы Сапожкова, неразрывно связана с историей рождения нашего общества и государства. Первые впечатления мальчика, сына ссыльных революционеров, формируют его характер и определяют жизненный путь будущего строителя новой жизни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пока Тима, закутанный в полушубок Говорухп, ожидал, когда просохнет его одежда, начало смеркаться.
Потом опять Говоруха, папа, Асмолов, Пыжов и Коля Светличный вместе с приисковыми рабочими совещались, как бы не снижать добычу золота оттого, что драга станет на ремонт.
Решили: на прииске останется Пыжов и будет производить разведку богатой руды для ручной добычи.
На рассвете обоз снова тронулся в путь. Папа всю дорогу молчал и делал какие-то записи. Асмолов курил, зябко ежился, подол его дохи затвердел от глины. Карталов показал Коле Светличному завернутую в тряпицу горсть песку, которую он намыл в овраге.
— Юрий Николаевич, — сказал тревожно Светличный, — глядите, Карталов золото украл. Надо вернуться.
— Ты какое слово про меня сказал, какое слово? — закричал взбешенный Карталов, пытаясь вырвать у Светличного тряпицу с песком.
Асмолов повел глазом и пробормотал равнодушно:
— Это не золото. Это медный колчедан.
— На вот тебе, самоварное золото! — обрадовался Светличный.
Лицо Карталова стало огорченным. Наклонившись над тряпицей, он долго внимательно ковырял в ней пальцем и даже пробовал отдельные крупицы на зуб. Потом вытряхнул песок на дорогу и злобно закричал на коней:
— А ну, заснули, шкуры! — и вытянул коренного кнутом.
Папа сказал:
— Это не коня, а вас бить надо: осрамили вы нас.
Но Карталов, притворившись, будто не слышит, продолжал кричать на коней и погонять их.
Скоро подводы снова въехали в таежную чащу. Пахло смолой, и под стволами деревьев виднелась земля. Было похоже, что деревья стоят в чашах. На буграх снег тоже растаял, и сквозь бурую, мертвую, сухую траву проклевывались тонкие зеленые лучики новорожденных стебельков.
Для охраны обоза Говоруха выделил двух горняков.
Один — в рваном зипуне, в высоких, до паха, броднях, мордастый, густо заросший курчавой светлой бородой сибиряк-золотишник; звали его Вавилой. Другой, по фамилии Поднебеско, — пожилой, с седыми усами на гладко выбритом суровом угловатом лице, шахтер из Донбасса, бывший политкаторжанин.
Вавила положил с собой в сани обушок на длинной рукоятке и плотницкий топор. У Поднебеско в брезентовой сумке запальщика лежали две самодельные гранаты с короткими белыми хвостиками от бикфордова шнура.
Вавила, снисходительно поглядывая на таежную чащу, сказал Тиме:
— Тут места для добычи самые что ни на есть легкие. — Он простер руку в сторону многоствольного бора. — Видал, крепожного лесу сколько? Бери — не хочу. А в наших дальних местах не набалуешься. Одни болота да тундра, и та до самой середки промерзла. Да это ничего, что промерзлая, без крепи проходку делаем и шпурить не надо. На ночь в забое прожог разложишь, утречком рубай, сколько сила позволит. Тепло, как в печи. Конечно, угарно в шахте от прожога: ежели наружи стужа не сильная, угар сразу не вытянет. Бывало, ребят насмерть придушало. Но ты на свечку не скупись, прошарь его:
ежели горит — значит, душа цела будет; погаснет — скинь одежу, омахай забой, сгони угар в дудку, а после рубай. Был у вас один подлюга, додумался пса в шахту спускать. Скулит — значит, угар, а нет — рубает спокойно. Да разве можно животную так мучить? Шерсть у нее вся повылазила: всё под землей да под землей. Выгнали мы подлюгу этого. А то в других артелях узнали б — засмеяли. У нас ребята на смех злые, — признался с удовольствием: — Меня тоже клевали в самую середку.
Пришел в забой после ночного прожога, стал помаленьку подбойку рубать на своем паю и чую, чего-то меня в грудь пихает. Поднял лампу, гляжу: глыба пудов на двести ползет по слизуну — ну такой, почти что глазу незаметный, пропластик из жирной глины, ползет и ползет. Оробел, уперся об ее руками и заорал на всю проходку, как на коня. — Надув толстые губы, парень издал звук, какой издают извозчики, осаживая лошадь. — С того дня ребята и прозвали меня «Тпру». А Вавилой только здесь стал, когда из своей артели ушел.
— Вы ушли оттого, что обиделись? — спросил Тима.
— Да разве за такое на людей обижаются? — удивился парень. — Артель у нас важная была, староста — Евтихий Кондратьевич Выжиган, на всю Сибирь известный.
Строгой души человек. При нем хозяева рудника никаких служащих по горному надзору не держали. Один за всех надзирал. Великий с этого барыш был хозяину. В артели, милок, круговая порука: чуть кто финтить начнет свой суд, своя тайная расправа. Хозяева артель уважали.
— Но почему вы тогда ушли?
— Почему да почему! — рассердился Вавила. — На временной революции обман вышел, с того и ушел. Думал, облегчение с нее получится, а на деле ничего. Мы ведь как на хозяина работали? Инструмент свой, лампа, масло, свечи свои. Весь продукт в лавке по ярлыкам втридорога бери. Чтобы хлеб не пекли в балагане, подрядчик печи порушил, а ведь зима. Стали в дудку двух ребят спущать, канат за ночь застыл и переломился на валке.
Зашиблись насмерть. Из ствола пар идет, и в забое пар, и ничем его не просветишь. Отсыреешь за упряжку, а посушить одежу негде. Говорим старшему: "Евтихий Кондратьевич, ступай до конторы, по случаю революции стребуй, чтоб хоть за инструмент да за свет артельных денег не платить". А он ни в какую. Говорит: "Хоть и революция, а договоренного слова ломать не буду. Подряжались на своем свету и инструменте работать — и будем так работать. А что печи в балагане подрядчик поломал, так насчет печей тоже уговора не было". Нашлись ребята позлее, ну, их из конторы сначала в тюрьму, а после в солдаты. Притихли мы после этого, но в артели началась свара. Одни за Выжигана стоят: чего было заведено дедами, то рушить нельзя. А другие, которые помоложе, говорят: "Зачем своими руками хомут на себя пялить?"
Пожаловался на них Выжиган, и их тоже в солдаты Керенский побрал. Обиделись мы, молодые, на Евтихия Кондратьевича. А после, как похоронили его, разбрелись кто куда.
— Вы что, убили его? — испуганно спросил Тима.
— Зачем? — обиделся Вавила. — Мы убийством не занимаемся. Только никто с ним в забое напарником не хотел быть. Сам утоп в плавуне, — кивнул головой на угрюмо молчащего Поднебеско: — Презирает. Я ведь после у деревенского богатея в шахтенке уголек рубал вместе с двумя мужиками из России, переселенцами.
Стал над ними старшой. Не хуже Выжигана их в строгости содержал. Тут другая революция объявилась, настоящая. Мужичишки шахтенку завалили, ну а я на рудник забрел. Там с меня дурь повыколачивали. Когда в России генерал Корнилов на революцию кинулся, меня с рудника в ревбатальон в Питер определили: шахтеры — народ быстрый.
Солнце светило жарко, на склонах увалов в земляных щелях бурлили ручьи. Зима скоропостижно гибла, серые рыхлые туши снега разваливались, сползали по слякотяой слизи; таяли, угрожающе разбухали водой низины, В середине пути пришлось поставить тележные короба на колеса: талая вода доходила до осей. Карталов отпряг пристяжную и верхом уезжал вперед, держа поперек спияы коня жердь, которой он мерял глубину промоин на дороге.
Поверх льда на таежных реках стояла вода. Лед сделался чистым, скользким. Шахтерам и Карталову приходилось подпирать плечами коней, чтобы они не падали, В раскисшей глине увязали телеги, и, чтобы вытащить их, надо было подкладывать под оси стволы деревьев.
Тима, как и все, промок, озяб. У него текло из носа, болела голова, глаза были красные. Но то, что он вместе со всеми наваливался животом на вагу или, выполняя при каз Карталова, тянул за узду коня, внушало Тиме уважение к себе, сознание своего равенства в беде со всеми.
Только Асмолов не принимал в работе никакого участия. Сняв варежку, он прижимал к бледному лбу ладонь, и красивое лицо его приобретало задумчивое, сосредоточенное выражение. Оп сказал папе с достоинством:
— У меня, кажется, температура.
Папа встревожился, вынул часы, проверил у Асмолова пульс, потом у себя и заявил:
— А у меня, знаете ли, даже более учащенный.
— Это оттого, что вы только что совершили чрезмерное физическое усилие.