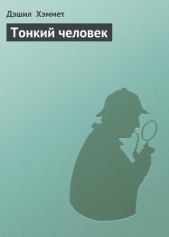Собрание сочинений. Том 1

Собрание сочинений. Том 1 читать книгу онлайн
Варлам Тихонович Шаламов родился в Вологде. Сын священника. Учился на юрфаке МГУ в 1926-1929 годах. Впервые был арестован за распространение так называемого Завещания Ленина в 1929-м. Выйдя в 1932-м, был опять арестован в 1937-м и 17 лет пробыл на Колыме. Вернувшись, с 1957 года начал печатать стихи в «Юности», в «Москве». В его глазах была некая рассеянная безуминка неприсутствия. Наверно, потому что он в это время писал свои «Колымские рассказы» и даже на свободе продолжал оставаться там, на Колыме. Эти рассказы начали ходить из рук в руки на машинке года с 1966-го и вышли отдельным изданием в Лондоне в 1977 году. Шаламова заставили отречься от этого издания, и он написал нечто невразумительно-унизительное, как бы протестуя. Он умер в доме для престарелых, так и не увидев свою прозу напечатанной. (Она вышла в СССР лишь в 1987-м.) Это великая «Колымиада», показывающая гениальное умение людей сохранить лик своей души в мире лагерного обезличивания. Шаламов стал Пименом Гулага, но и добру внимая отнюдь неравнодушно, и написал ад изнутри, а вовсе не из белоснежной кельи.
В первый том Собрания сочинений Варлама Тихоновича Шаламова (1907–1982) вошли рассказы из трех сборников «Колымские рассказы», «Левый берег» и «Артист лопаты».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А ты, — волосатый перст дотронулся до моей груди. — Ты почему неразборчиво отвечаешь? Хрипишь что-то.
— У него зубы болят, — ответили мои соседи.
— Нет, — ответил я, стараясь заставить свой разбитый рот выговаривать слова как можно тверже. — Жалоб на конвой нет.
— Рассказ неплохой, — сказал я Сазонову. — Литературно грамотный. Только ведь не напечатают его. И конец какой-то аморфный.
— У меня есть другой конец, — сказал Сазонов. — Через год я был большим начальником в лагере. Тогда ведь «перековка» была, и Щербакову выходило место младшего оперуполномоченного в том отделении, где я работал. Там от меня многое зависело, и Щербаков боялся, что я запомнил эту историю с зубом. Щербаков этот случай тоже не забыл. У него была большая семья, место было выгодное, заметное, и он, человек простодушный и прямой, явился ко мне, чтобы узнать, не буду ли я возражать против его назначения. Пришел с бутылкой, мириться по русскому обычаю, но я пить с ним не стал и уверил Щербакова, что я ничего плохого ему не сделаю.
Щербаков обрадовался, долго извинялся, топтался у двери моей, все задевая каблуком за коврик, и не мог окончить разговор.
— Дорога ведь, этап, понимаешь. С нами беглецы были.
— Этот конец тоже не годится, — сказал я Сазонову.
— Тогда у меня есть еще один.
Перед тем как получить назначение на работу в то отделение, где мы встретились снова с Щербаковым, я встретил на улице в лагерном поселке санитара Петра Зайца. Молодой черноволосый, чернобровый гигант исчез. Вместо него был хромой, седой старик, кашляющий кровью. Меня он даже не узнал, а когда я взял его за руку и назвал его по фамилии, вырвался и пошел своей дорогой. И по глазам его было видно, что Заяц думает о чем-то своем, мне недоступном, где мое появление или не нужно, или оскорбительно для хозяина, беседующего с менее земными людьми.
— И этот вариант не годится, — сказал я.
— Тогда я оставляю первый. Если и нельзя напечатать — легче, когда напишешь. Напишешь — и можно забывать…
1964
Эхо в горах
В учетном отделе никак не могли подобрать старшего делопроизводителя. Впоследствии, когда дело разрослось, эта должность вместила целый самостоятельный отдел — «группу освобождения». Старший делопроизводитель выдавал документы об освобождении заключенных и был фигурой важной в мире, где вся жизнь нацелена на ту минуту, когда арестант получает документ, дающий ему право не быть арестантом. Старший делопроизводитель сам должен быть из заключенных — так предусмотрено экономной штатной ведомостью. Конечно, можно бы заполнить такую вакантную должность и по партийной путевке или по какой-либо профсоюзной организации, либо уломать армейского командира, уходящего из армии, но время было еще не такое. На службу в лагеря — с какими хочешь полярными окладами — желающих было найти не так-то просто. Служба по вольному найму в лагерях считалась еще делом позорным, и во всем учетном отделе, ведающем всеми делами заключенных, работал только один вольнонаемный — инспектор Паскевич, тихий запойный пьяница. В отделе он бывал мало — большая часть его времени тратилась на фельдъегерские поездки, ибо лагерь был, как полагается, расположен далеко от людских глаз.
И вот старшего делопроизводителя никак не могли найти. То выяснится, что вновь назначенный работник связан с блатным миром и выполняет его таинственные поручения. То окажется, что делопроизводитель освобождает за деньги каких-то южных спекулянтов-валютчиков. То получится, что парень честен и тверд, но растяпа и путаник и освобождает не того, кого нужно.
Высокое начальство искало нужного им человека со всей энергией — ведь как-никак ошибки в деле освобождения считались самым что ни на есть криминалом и могли привести к быстрому окончанию карьеры лагерного ветерана, к «увольнению из войск ОГПУ», а то еще и довести до скамьи подсудимых.
Лагерь был тот самый, что год назад назывался 4-м отделением Соловецких лагерей, а теперь был самостоятельным, важным лагерем на Северном Урале.
Только старшего делопроизводителя этому лагерю и не хватало.
И вот с Соловков, с самого острова, прибыл спецконвой. Это большая редкость для Вишеры. Туда некого возить спецконвоем. Лошадиные теплушки — вагоны красного цвета с нарами внутри — или известные пассажирские классные с затянутыми решеткой окнами — так и кажется, что вагон стыдится своих решеток. На юге жители, спасаясь от воров, ставят в окна решетки причудливой формы — как цветы, лучи, — живое воображение южан подсказывает им эти неоскорбительные для глаз прохожего формы решеток, которые все же остаются решетками. Так и классный пассажирский вагон перестает быть обыкновенным вагоном из-за этих железных вуалеток, закрывающих его глаза.
По уральским, по сибирским дальним железным дорогам еще ходили в то время знаменитые «столыпинские» вагоны — кличка, которую тюремные вагоны сохранят еще много десятков лет, вовсе не будучи столыпинскими.
«Столыпинский» вагон — с двумя маленькими квадратными окнами с одной стороны вагона и несколькими большими — с другой. Эти окошечки, затянутые решетками, вовсе не позволяют видеть снаружи то, что делается внутри, даже если подойти вплотную к окошечку.
Внутри вагон поделен на две части массивными решетками с тяжелыми гремящими дверями, каждая половина вагона имеет свое маленькое окно.
С обеих сторон — отделения для конвоя. И коридор для конвоя.
Спецконвой в «столыпинских» вагонах не ездит. Конвоиры возят одиночек в обыкновенных поездах, заняв одно из крайних купе — все еще было по-семейному, просто — как до революции. Опыт еще не был накоплен.
Прибыл спецконвой с Острова — так называли Соловки тогда, просто Остров, как остров Сахалин, — и сдал невысокого пожилого человека на костылях в обязательном соловецком бушлате шинельного сукна, в такой же шапочке-ушанке — соловчанке.
Человек был спокоен и сед, порывист в движениях, и было видно, что он еще только учится искусству ходить на костылях, что он еще недавно стал инвалидом.
В общем бараке с двойными нарами было тесно и душно, несмотря на раскрытые настежь двери с обоих концов дома. Деревянный пол был посыпан опилками, и дежурный, сидевший при входе, разглядывал в свете семилинейной керосиновой лампы прыгающих в опилках блох. Время от времени, послюнив палец, дежурный пускался на поиски стремительных насекомых.
В этом бараке и было отведено место приезжему. Ночной барачный дежурный сделал неопределенный жест рукой, показывая в темный и вонючий угол, где вповалку спали одетые люди и где не было места не только для человека, но и для кошки.
Но приезжий спокойно натянул шапку на уши и, положив свои костыли на длинный обеденный стол, взобрался на спящих людей сверху, лег и закрыл глаза, не делая ни одного движения. Силой собственной тяжести он продавил себе место в других телах, и если его сонные соседи делали движение — тело приезжего немедленно вмещалось в это ничтожное свободное пространство. Нащупав локтем и бедром доски нар, приезжий расслабил мускулы тела и заснул.
На другое утро выяснилось, что приехавший инвалид — тот самый долгожданный старший делопроизводитель, которого так ждет управление лагеря.
В обед его вызвали к начальству, а к вечеру перевели в другой барак — административной обслуги, где проживали все чиновники лагеря из заключенных. Это был барак удивительной, редчайшей конструкции.
Его строили, когда начальником лагеря был бывший моряк, топивший в восемнадцатом году Черноморский флот, когда туда приезжал знаменитый мичман Раскольников.
Моряк сделал сухопутную лагерную карьеру, а постройка барака для обслуги была его выдумкой, его данью своему морскому прошлому. В этом бараке двухэтажные нары были подвесные — на стальных тросах. Висели кучками, по четыре человека, как моряки в кубрике. Для прочности конструкция была связана с одной стороны длинной железной толстой проволокой.