Том 12. В среде умеренности и аккуратности
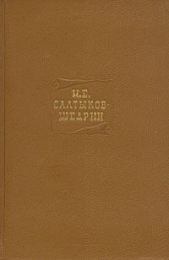
Том 12. В среде умеренности и аккуратности читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника». Именно эти произведения и в такой последовательности Салтыков предполагал объединить в одном томе собрания своих сочинений, готовя в 1887 г. его проспект.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А то был еще действительный статский советник Зильбергрош — этот не кричал, а каждым словом, каждым движением язвил. Говорил — шипел, глядел — обливал презрением. Процедит сквозь зубы слово и взглянет: а хочешь, я тебя сейчас ногтем раздавлю? Иногда нарочно посреди доклада остановит и задумается. «Гм… так вы говорите: «а посему я полагаю»… это, то есть, я… я…А почему вы думаете, что я так полагаю?» И потом засмеется загадочно, беззвучно, ехидно… «Ну, скажет, ступайте; до завтра, может быть, и надумаетесь!» Так и уйдешь, бывало, ни с чем, и потом живешь целый день между смертью и жизнью… А завтра он, ни слова не говоря, возьмет и подпишет.
А Лихошерстов? а Ненаедов? а барон Доброезжий?
Один Байбаков генерал оставил после себя добрую память, потому что был ленив, в департамент не ходил, а принимал у себя на дому, в одном нижнем белье. Но и тот черт знает где руки держал…
При этих воспоминаниях, несмотря на старческое малокровие, щеки Разумова загорались краской стыда; он брал себя руками за голову, затыкал уши и закрывал глаза, чтоб не видеть и не слышать.
И в результате всей этой свиты воспоминаний — отставка и сладкое убеждение, что не обидел мухи… Ах, фофан! ах, ротозей!
А он-то старался, усердствовал! Уловлял самые непредвидимые движения души, усиливался угадать самые беспардонные мысли, просиживал ночи, подыскивал для них «законные основания»… Дурак! дурак! дурак!
По милости его, Зильбергрош даже умницей прослыл. Он, Разумов, сам собственными ушами слышал, как, в его присутствии, некоторый обер-туз сказал Зильбергрошу: «Очень-очень остроумно и даже, можно сказать, ехидно вы, Карл Адамыч, махинацию эту подвели!» А кто подвел махинацию? кто взлелеял ее в ночной тишине? он подвел! он взлелеял! он, Разумов! А Зильбергрош за нее похвалу получил!
Разумеется, все эти припоминания и ретроспективные ропоты Гаврило Степаныч допускал только внутренно, но однажды не вытерпел и проговорился даже Ольге Афанасьевне.
— Не так бы нам в ту пору поступать надо было! — сказал он, напомнив ей несколько действительно характерных случаев прошлого.
— А как же бы ты поступил? — удивилась она.
— А так бы вот… купил бы лист гербовой: просит, мол, такой-то, а о чем…
— А потом куда бы ты пошел?
— Ну… куда? Мало ли… слава богу, не клином свет сошелся! То-то вот мы с тобой смиренны уж очень, всю жизнь к сторонке жались да твердили: ах, как бы не задеть кого да не обидеть! Вот нас за это…
— Ах, друг мой! друг мой!
Сказавши это, Ольга Афанасьевна грустно покачала головой, и после того разговор на эту тему уже не возобновлялся.
«То-то вот и есть, что клином сошелся!» — мелькнуло у него самого в голове. До такой степени клином, что вот теперь, когда он, по манию тайного советника Губошлепова, пущен в пространство, он не знает, куда приклонить голову. Он не только чувствует себя непригодным к какому бы то ни было настоящему делу, но даже беспокоится, куда бы ему «идти» в тот урочный час, в который он, состоя на службе, имел обыкновение «уходить» в департамент. Он переносит из комнаты в комнату свою скуку, слоняется, смотрит в окно, брюзжит и каждую минуту чувствует, что он даже в своем собственном доме лишний, мешает.
И все-таки повторяю: ежели он и винил в чем-нибудь свое прошлое, то совсем не в том, что кого-то когда-то обидел, придавил, обездолил, а, напротив, скорее в том, что он именно никого, даже мухи, — не обидел…
Во всяком случае, приходилось подчиниться насущным результатам этого прошлого и уживаться с насильственной праздностью, им завещанной. И действительно, после первых трех лет «спокоя», Разумов настолько смирился, что даже обуревавшая его скука бездеятельности мало-помалу улеглась. Он еще не дошел до признания нормальности своего положения, но мало-помалу утрачивал силу противодействия и делался неспособным роптать. И в то же время он начал очень быстро дряхлеть.
Жизнь его была кончена — в этом нельзя было сомневаться. Налицо оставался только пепел, под которым не только ничего не вспыхивало, но и не тлело. Собственно говоря, ему предстояло не жить, а быть лишь зрителем, как жизненный процесс мало-помалу ослабевает и меркнет в его организме. Вот и сегодня что-то ослабло и притупилось, а там, глядишь, из-за угла сторожит и еще немочь. И таким образом идет день за день, без всякой надежды на просвет, все к разрушению, исключительно к разрушению. Ужасно обидно это сознание бесповоротности, бессилия, особливо ежели в прошлом не было ни тепла, ни света, ни страсти, ни радости, ничего, кроме «сущей совести». Ах, эта «сущая совесть»!
Но подле него ютилась другая жизнь, молодая, только что начинающаяся, и мысль старика не могла оторваться от этой жизни. Существовали данные, которые сообщали этой мысли тревожный, гнетущий характер. Нельзя сказать, чтоб личные качества Степы возбуждали неудовольствие или порицание; напротив, Гаврило Степаныч знал наверное, что это юноша честный, трудолюбивый и притом до крайности кроткий, любящий, сердечный. Но в самом воздухе носилось что-то такое, что именно эти-то качества делало несостоятельными, что могло грубо прикоснуться к этой чувствительной, нежной натуре, обидеть и затереть ее.
Когда Гаврило Степаныч раздумывал об этом, то, по временам, ему приходило на мысль что-то новое, неожиданное. А именно, он чувствовал, что в эти тревожные думы, по-видимому, посвященные исключительно настоящему, врываются какие-то смутные отголоски из его чиновнического прошлого. Словно далекий, чуть слышный стук или неопределенное напоминание, вроде того, какое иногда испытывается при чтении книги. Помнится, что где-то, когда-то затрогивался известный предмет, но где и когда — не доищешься. Только случайность может раскрыть кроющуюся тут связь и иногда раскрывает ее очень трагически.
Но покамест явление это выразилось еще не настолько резко, чтоб заставить его серьезно вдуматься в него. Поэтому Разумов все свои тревоги сосредоточил только на тех случайностях, которые, так сказать, вытекали исключительно из личного положения его сына. Он чувствовал потребность знать его жизнь изо дня в день и потому требовал, чтоб сын как можно чаще и подробнее писал об себе и о своих знакомствах. Разумеется, Степа выполнял это требование аккуратно. Письма его, искренние и подробные, перечитывались по нескольку раз; комментировалось каждое слово; обсуждался каждый шаг, особливо ежели он возвещал о новом знакомстве; угадывалось, нет ли какой нужды, которую приятно было бы, но мере сил, удовлетворить. Во всяком случае, общее впечатление получалось довольно успокоительное: Степа жил в надежном семействе, занимался отлично и обычным порядком переходил из класса в класс. Уж три года минуло с тех пор, как Гаврило Степаныч вышел в отставку; в это время Степа два раза гимназистом побывал на каникулах в Подхалимове, п в оба раза родители не нарадовались на него. В третий раз он приехал студентом университета. Жизнь широко растворила двери перед юношей, жизнь, напоминавшая о том, что наступила пора обязательной самостоятельности, пора необходимости промыслить о себе самому. Старый отец умилился, но сердце его забилось еще тоскливее. Жизнь! что такое жизнь? с тревогою спрашивал он себя поминутно и чувствовал какой-то панический страх, когда, после многих бессильных потуг приходил к убеждению, что он никакого сколько-нибудь обстоятельного ответа на этот вопрос дать не в состоянии.
Свою собственную жизнь он, конечно, мог себе растолковать, но разве такая жизнь прилична его сыну? Его личная жизнь исчерпывалась словами: «повинны беша работе» *. В старину и все так жили. Жизнь сразу вкладывалась в известные рамки и незаметно изживалась до тех пор, пока клубок до последнего вершка не развертывал намотанную на него нитку. Последний вершок нитки истрачен — и от человека ничего не осталось, совсем ничего: ни слов, ни дел. Бывали, конечно, и в старину исключения, случались и тогда катастрофы, но большинство не знало их. Большинство так мало ждало от жизни, что и опасений иметь не могло: немного лучше, немного хуже — вот и все. Такова была и его жизнь; но разве Степа на то рожден и воспитан, разве на то в него положили всю душу, все чаяния, чтоб он с таким же тупым терпением тянул лямку, как и отец, как и все? Нет, это было бы и несправедливо, и обидно.

























