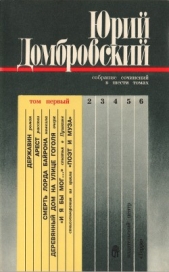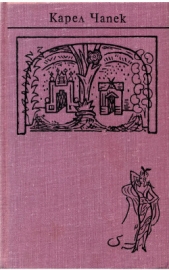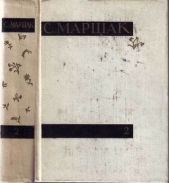Том 6. Проза 1916-1919, пьесы, статьи

Том 6. Проза 1916-1919, пьесы, статьи читать книгу онлайн
В шестой том собрания сочинений вошли прозаические произведения 1916–1919., пьесы и статьи.
Комментарии Ю. Чирвы и В. Чувакова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я сказал: «игра вовсю» — да, вот главнейший, самый существенный признак, который кладет границу между старым и новым в театре: игра. Но что же такое: «игра», театр «игры»? И вот здесь я с особенной силой чувствую ту почти безвыходность, когда о новых вещах приходится говорить старыми словами, истинный смысл которых исказился во время долгого шатания по свету. К таким словам прежде всего относится упомянутое слово «игра» в его применении к театру — затрепанное до последней степени, применяемое вкривь и вкось, оно давно перестало понимать само себя. Ведь если «игра» у Шекспира, то разве не «игра» у Чехова? И разве не один и тот же Качалов «играет» и Гамлета, играет и «Иванова» — где же разница и в чем она?
На это я отвечу, во-первых, что Гамлета Качалов действительно «играет» (хотя и очень желает не делать этого), а Чехова Качалов не играет, а делает как раз что-то другое, для чего мы еще не имеем точного и признанного термина. Когда романист или драматург-психолог пишет своих героев, то «играет» он их или нет? Нет, он их переживает, творит, изображает — все, что угодно, но только не играет. Ибо «игра» есть нечто, совсем отличное от того художественного процесса воссоздания живых людей, который составляет основу творчества психологического. Игра есть притворство, и чем оно тоньше, умнее, красивее, тем игра лучше; психологическое творчество есть правда, и чем она очевиднее, строже, неподкупнее, чем дальше она от притворства, тем произведение выше и художественнее. Творя образы психологические, художник должен быть абсолютно искренен, не только верить, но и знать, что вот именно таковой-то изображаемый, с этим именно носом, с этой именно душой действительно и абсолютно существует; и пусть читателю он покажет только спину его, для себя он должен знать всю его жизнь, каждый прыщик на его теле, его сны и его явь. И совсем не должен быть искренен писатель или драматург, если задача его дать игру — избави Бог, если он поверит всерьез, что маска (синоним игры), надетая им, есть его подлинное и истинное лицо: играя, нужно верить только наполовину, как те играющие собаки, которые только касаются друг друга зубами, но не грызут.
И весь старый театр есть театр притворства — в противоположность новому, который есть и будет театром правды. И вовсе не нужно показывать на сцене Арлекина и Панталоне, чистых представителей comedia del'arte, чтобы видеть театр игры, театр притворства: каждая старая и современная пиеса пронизана игрою, вся построена на притворстве, на маске, вся пропитана той счастливой полуискренностью автора и актеров, при которой никакая боль по-настоящему не больна, а только радует эстетически [16]. Театральные слезы — это пот души, старающейся отделаться от тяжелых заболеваний и страдания, — столь же сладки, как и смех, и оправдывают негодующие слова искреннейшего из писателей русских, Вересаева: искусство хлещет нас бичами, но бичи эти сплетены из роз (цитирую на память). Очень возможно, что тот свист и вопли, которыми публика встречает теперешние попытки дать драму психологическую, есть лишь показатель ее непривычки к настоящим большим страданиям, не сладким, а горьким слезам… как и отсутствие публики на других пиесах показывает ее полное нежелание дольше мириться с надоевшим притворством театральным.
Правда в искусстве — вот лозунг грядущего Возрождения искусства, на пороге которого мы стоим. И быть этому Возрождению именно в России — в это я твердо верю. Но это между прочим.
И как нелепо говорить про Шаляпина, что он «поет» Годунова, хотя то же слово вполне применимо к Липковской, старательно поющей Виолетту, — так и неприменим термин «играет» к актерам в пиесах Чехова на сцене Художественного театра. И эти понятия: актер играет и актер переживает необходимо точно разграничить, даже репортеров научить, чтобы не смешивали. Но еще более точно и строго надо отделить друг от друга старый театр игры и новый психологический театр: здесь надо возвести высочайшую брандмауэр, стену из камня.
Маска, лежащая в самом основании театра притворства, роковым образом обрекает его на вечную и нерасторжимую связь с зрелищем и действием во внешних его проявлениях. Но одни пути для правды и другие пути для притворства — и там, где так привольно для игры, там тесно для творчества психологического, правды художественной. Так всякая свобода когда-нибудь становится рабством; так действие и зрелище, когда-то создавшие театр, ныне становятся убийцами его, деспотами, с которыми может справиться только революция. И она уже началась с приходом господина Кинемо, и музыкой ей служит треск разваливающегося старого театра, свист недоумевающей публики и массовая забастовка драматургов. Ибо «оскудение нашей драматической литературы» есть в конце концов лишь бессознательная и молчаливая забастовка тех, кто никак не хочет совместить правду своего творчества литературного с господствующей еще театральной ложью.
Если мало психологичен Шекспир, падающий, как старая крепость, под могучим натиском правды, то еще менее психологичны все те, кого продолжал и продолжает ставить Художественный театр. А сколько усилий, сколько работы, сколько таланта — вдруг оказавшегося бессильным перед неосуществимой задачей: найти душу там, где ее нет и где ее даже и не хотели!
Вспомните «Бранда». И волны пенились как живые, почти что как в кинематографе; и горы обваливались, и за костюмами ездили в Норвегию; и сам Качалов, еще не напуганный Гамлетом, как он, вероятно, напуган теперь, пытался изо всей силы своего таланта что-то создать… и пустота, нестерпимая скука, деревянные фигуры, из которых бесплодно стараются выжать хоть кроху психологии. Но откуда ее взять? Для Ибсена психологии нужно было не больше, как на смазку сапог у Бранда: образа чисто идейного, логического, какого-то бинома ньютоновского с его скобками, равенствами и вопросами. И когда, тоскуя, смотрел я на этого Ибсена, на этого расшнурованного Бранда, мне вспомнились слова покойного Чехова. На мой вопрос об Ибсене — что-то вообще — Чехов совершенно серьезно, без тени шутки, ответил кратко:
— Ибсен — дурак.
Тогда меня слова эти поразили и даже возмутили втайне как горячего поклонника Ибсена, но тут я подумал, что, пожалуй, Чехов и прав. С его точки зрения панпсихолога, добытчика правды душевной даже у вещей, Ибсен должен был казаться тем же, чем Шекспир Толстому: форменным глупцом. И театр, подойдя к постановке Бранда с теми же требованиями, что и Чехов, — неизбежно должен был превратить Ибсена в глупца. Это и совершилось.
Вспомните далее постановки «Горе от ума», «Ревизора» и Островского — последнего только отчасти, так как хоть в малой доле своей все же был Островский психологом (хотя бы даже психологом быта, как пишет о нем теперь Комиссаржевский). Типы исключительно общественные, но отнюдь не психологические, как Фамусов, Молчалин, Чацкий, Хлестаков, Бобчинский и Добчинский, театр изо всех сил своих пытался начинить психологией — и получался новый Бранд. Декламационный, явно нарочитый, адвокатский пафос Чацкого старались обосновать психологически — и потускнел весь Чацкий, просто так растерялся. Его нарочитую любовь к Софье, как и нарочитую любовь Софьи к Молчалину, стремились поставить на прочный фундамент психологический — и вдруг умнейший Грибоедов стал казаться глупцом, не умеющим психологически связать двух слов.
В гоголевском «Ревизоре» вещей нет, они не живут, не звучат, они не нужны были Гоголю в его задаче общественной — и напрасно панпсихолог Художественный театр руками Хлестакова давил на стене воображаемых клопов: клопы так и остались воображаемыми и никак не вошли в душу зрителя. И напрасно талантливейший Уралов старался не играть городничего, а жить на сцене — стал городничий груб, неузнаваем; и всякий актер, который городничего играл, давал больше, чем все дары Художественного театра. И самая веселость у Гоголя пропала — это у Гоголя-то!
Не избежал общей печальной участи и Мольер. Его «Мнимый больной», весь построенный на игре, на веселом притворстве, на полнейшем и очаровательном пренебрежении к психологии — очаровательном, ибо оно явно — был безбожно отягощен, как муха на нитке, грузом психологической мотивировки, трагической попыткой и из этих веселых пустяков выдавить что-то душевно солидное. Я не прочь посмеяться и иногда хожу в кинематограф, чтобы поглядеть на любовные приключения Макса Линдера, головой пробивающего стены; но если во время этой веселой истории, проламывая головой стену, он станет доказывать и показывать, что его любовь есть истинная любовь, а не нарочно, — мне просто станет скучно. И когда в веселой мольеровской игре мнимый больной нарочно верит, потому что и весь он нарочный, — что переряженная горничная есть настоящий доктор, я смогу смеяться. Но когда гениальный Станиславский, по силе творческого и психологического дара равный Шаляпину, все время доказывает мне и уже доказал, что мнимый больной есть самый живой и действительный человек, а потом вдруг верит в переряженную горничную — мне становится скучно, стыдно, хочется поскорее уйти из театра. И чем больше старался талантливый А. Бенуа дать правду вещам, тем все меньше оставалось и правды, и Мольера; и так хромая на обе ноги, то на сторону игры, то на сторону психологии, доковылял мнимый больной до своего великолепного конца, когда колоссальные клистиры победоносно закончили эту нелепую борьбу правды с притворством.