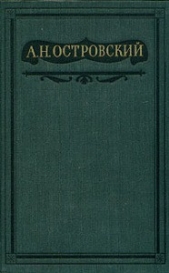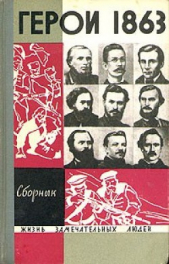Николай Негорев, или Благополучный россиянин

Николай Негорев, или Благополучный россиянин читать книгу онлайн
«Николай Негорев, или Благополучный россиянин» — роман-хроника. В центре книги — молодое поколение мелкопоместной семьи Негоревых. Автор рисует формирование характеров двух братьев Негоревых, Николая и Андрея, их сестры, их друзей и соучеников.
Заглавный герой, скрытный и эгоистичный, с детства мечтает устроить свою судьбу лучше других, всем завидует и никого не любит. Он хитер и расчетлив, умеет угодить и неуклонно идет к своей цели…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— К следующему разу приготовьте следующий параграф, — проговорил Яков Степаныч, выходя из класса среди всеобщего шума. Он всегда так преподавал немецкий язык в младших классах, а в старших классах — словесность, и ученики не могли им нахвалиться.
Во время шума, гама и пыли, всегда наполняющих маленький промежуток времени между уходом одного учителя и приходом другого, ко мне подошел тот довольно взрослый, неуклюжий парень, который показывал мне Москву.
— Ты ел кокосы? — спросил он, схватив меня за плечо.
— Нет — и не хочу, — решительно отвечал я.
— Нет, ты попробуй. Вот сейчас придет учитель, Федор Митрич, он добрый; постоянно с собой кокосы носит, ты у него попроси.
— Нет, я не хочу, — повторил я.
— Шш!
Все бросились на свои места. В класс вошел, слегка прихрамывая на левую ногу, высокий черноволосый учитель, со ртом, искосившимся набок от паралича. В костюме его было заметно большое неряшество; волосы не причесаны, сапоги не чищены, рубашка грязная. Это был Федор Митрич, учитель географии. Он доковылял до стула, тяжело сел на него и, подперши голову локтями, начал смотреть в окно. В классе царствовала грозная тишина.
— Федор Митрич, вот новенький есть, — почтительно доложил Сколков, показывавший мне Москву.
— А-а!
— Он хочет попробовать кокосов.
— Новичок? Где он? Поди-ко сюда, — проговорил Федор Митрич тем коварным тоном, каким произносит актер: «А подать сюда Тяпкина-Ляпкина».
Я встал и подошел к учительскому столу. Федор Митрич молча, внимательно начал осматривать меня.
— Повернись! Экой птичий хвост! — вскричал он, изо всей силы дернув меня сзади за фалду фрачка, так что я невольно всем корпусом подался назад. — Дворянчик! На конфектах воспитан! Что ж ты, щенок? повертывайся! — вдруг яростно крикнул Федор Митрич, точно я наступил ему на мозоль.
Я повернулся к нему лицом.
— Ел кокосы?
— Нет.
— Хочешь попробовать?
— Нет, покорно вас благодарю, — со слезами на глазах проговорил я.
— Нет, ты попробуй. Повернись.
Слезы у меня потекли по щекам. Я повернулся.
— Раз!
Федор Митрич ударил меня казанками кулака по голове, в темя. Слезы поплыли по моим щекам еще ниже.
«Господи! За что бьет меня этот человек! Некому за меня заступиться», — жалобно подсказало мне мое сознание.
— Два!
Раздался второй, третий удар, и я заплакал уже навзрыд, совершенно забывши, где я нахожусь.
— Это что еще за нежности! — крикнул Федор Митрич. — Вот я тебя попробую прежде, голубчика, что ты такое знаешь. Чему тебя учили там, в твоих родовых поместьях-то?
— Я учился… — начал было я, но слезы душили меня,
— Какой главный город в Персии?
Я начал отвечать. Оказалось, что я знал даже больше, чем требовалось для моего класса.
— Так, так! — сердито подтверждал мои ответы Федор Митрич. — Выдрессировали! Ай-да батюшкин сынок? Садись на место.
После этого началось спрашивание уроков; Федор Митрич с молчаливой угрюмостью слушал ответы и ставил в журнале нули.
После него к нам явился какой-то обрюзгший толстяк, одетый еще неприличнее Федора-Митрича. Одна нога, обернутая грязной онучей, болталась у него в каком-то не то в галоше, не то в опорке. Он грузно хромал, почти подпрыгивая на каждом шагу.
— Ну, читай ты, Малинин, — гнусаво проговорил он.
Малинин начал монотонно читать басни Крылова.
Толстяк (учитель русского языка Иван Капитоныч) сел к столу, прилег головой на руки и сладко задремал вплоть до звонка. На задней скамейке Сколков выиграл у кого-то шестьсот носов и спокойно получал свой выигрыш, громко отбивая носы к великой потехе всего класса.
На последнем уроке не было учителя, и за порядком наблюдал старший ученик Малинин. Он вышел к классной доске, написал на ней: Шалили, поставил двоеточие и остановился середи класса с мелом в руках, отыскивая глазами нарушителя тишины и порядка, которого бы можно было занести в первую голову под рубрику Шалили. В классе поднялся шум, в Малинина начали бросать жеваной бумагой, корками хлеба и кусочками штукатурки, а с заднего стола вылетела даже немецкая грамматика. Но отважный мальчик был так тверд при исполнении своих обязанностей, что его нисколько не поколебала и немецкая грамматика: он под градом хлебных корок и бумажных шариков неусыпно заносил на доску одну за другой фамилии шалунов, делая это с таким спокойствием, как будто говорил сам себе: «Ладно, ладно! Кидайте покуда сколько хотите; через четверть часа вас всех перевесят».
Ко мне столько приставали перед обедом с разными глупостями, вроде уверений, что новичок должен, выходя из-за стола, целовать руку у надзирателя, или из скромности ничего не есть за обедом, — и так надоели, что я очень обрадовался, получив возможность уйти в сад и уединиться хоть на несколько минут. Я сел на траву и с горечью начал думать о своем положении. Мне казалось, что сегодняшние мучения будут повторяться каждый день, и я скоро разжалобился до совершенной безутешности. Мне припомнилась деревенская свобода и покой; я начал плакать и дразнить себя жалкими картинами, чтобы вылить с слезами как можно больше своей печали.
Когда я достаточно наплакался и поднял глаза, подле меня уже задумчиво сидел нелюдимый мальчик, перепачканный в мелу и чернилах, которого я в течение дня успел заметить в толпе окружавших меня учеников. Он ни с кем не говорил, смотрел на всех какими-то дикими глазами и держался в стороне, как зверек, потерявший свободу. Я сразу понял, что он мучится так же, как я, и что мы не должны быть чужды друг другу. Однако ж я не хотел или не знал, с чего начать разговор, и дожидался, когда он заговорит.
— Вы не плачьте, — сказал он мне, видя, что я успокоился и смотрю на него. — Следует надеяться на бога. Он говорит: «Приидите ко мне все плачущие, и аз успокою вы». Если вам хочется плакать, вы помолитесь богу. Вы любите бога?
— Люблю, — ответил я, так как мой собеседник остановился, дожидаясь от меня ответа.
— Как ваша фамилия?
— Негорев. А ваша? — спросил я, вынув платок и вытирая последние слезы.
— Оверин. Хотите вы быть угодными богу? Кто плачет, тому легко угодить богу, а кто веселится, тот забывает о боге. Хотите вы быть угодным богу?
— Хочу, — ответил я, не понимая, к чему клонятся его напряженные, серьезные вопросы.
— Если вы хотите, мы сделаем вот что…
Оверин подвинулся и заговорил, глядя в землю:
— Здесь есть один мальчик — Малинин, я говорил с ним об этом, но он не хочет. Пусть они остаются здесь, а мы уйдем.
— Куда?
— Читали вы жизнь старца Серафима? Я думаю уйти сначала куда-нибудь в лес, хоть не так далеко. Мы возьмем с собой две лопаты, топор и немного хлеба — это будет не тяжело нести. Где-нибудь в бору найдем такое удобное место, недалеко от реки, чтобы нам было что пить. Нужно только, чтобы к этому месту никто не мог пройти, чтобы его никто не знал. Бывают такие места, я сам видел, что кругом растут сплошь, одна подле другой, сосны, как частокол; из-за ветвей вверх ничего не видно, а в середине площадка, и от темноты на ней даже травы не растет. Вот на такой площадке мы выкопаем глубокую яму, так, чтобы в ней могло поместиться две маленькие комнаты. По краям ямы вставим заборы, чтобы земля не осыпалась, а в середине собьем русскую печь из глины, — знаете, какие бывают в деревнях? Верх мы закроем бревнами — их будем рубить подальше, чтобы не заметили, что мы тут живем. Сверх бревен насыплем землю, так что если кто и будет проходить мимо, то не узнает, что под ногами у него живут люди. У нас будут две комнатки, и постоянно будет гореть лампадка перед образом — от нее только будет свет. Когда мы будем выходить за пищей, то будем заваливать вход, чтобы никто не узнал. Мы будем молиться, есть же — как можно меньше, а спать на голых досках. Пройдет десять — двадцать лет, мы сделаемся стариками и будем угодны богу так, что нам будут поклоняться медведи и дикие звери. Наконец кто-нибудь из нас умрет первым… Вам сколько лет?