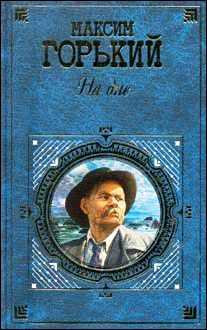Том 9. Жизнь Матвея Кожемякина

Том 9. Жизнь Матвея Кожемякина читать книгу онлайн
В девятый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1909–1912 годах. Из них повести «Городок Окуров» и «Жизнь Матвея Кожемякина» входили в предыдущие собрания сочинений писателя. Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким, в последний раз — при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов. Включённое в том произведение «Большая любовь» не было закончено автором и было известно читателям лишь по небольшому отрывку, появившемуся в печати до Октябрьской революции. В настоящем издании это произведение, примыкающее по своему содержанию непосредственно к «окуровскому циклу», впервые печатается так полно, как это позволяют сделать сохранившиеся рукописи М. Горького.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Всё ты — про одно и то же! Это не больно трудно всегда про одно говорить.
Сима усмехнулся и, покорно опустив голову, замолчал.
— Ну? — закрыв глаза, спросила Лодка.
Он снова забормотал скороговоркой чуть слышно:
— Что ты всё жалуешься? — перебила его Лодка, неприязненно хмурясь. — Ты бы лучше мне сочинил хоть какие-нибудь любовные стишки, а то — господи да господи! Что ты — дьячок, что ли? Любишь, а стишков не догадаешься сочинить!
Сима перестал гладить её руку и отрицательно замотал головой.
— Не умею я про женщин…
— Любить — научился, ну, и этому научись, — серьёзно сказала женщина.
Приподнялась, села на постели и закачалась, обняв колена руками, думая о чём-то. Юноша печально осматривал комнату — всё в ней было знакомо, и всё не нравилось ему: стены, оклеенные розовыми обоями, белый, глянцевый потолок, с трещинами по бумаге, стол с зеркалом, умывальник, старый пузатый комод, самодовольно выпятившийся против кровати, и ошарпанная, закоптевшая печь в углу. Сумрак этой комнаты всегда — днём и ночью — был одинаково душен.
— Врёшь ты! — задумчиво и медленно начала говорить Лодка. — Врёшь, что не умеешь про женщин. Вон как про богородицу-то сочинил тогда:
Да! — Она вдруг как-то злобно оживилась и, щёлкнув языком, прищурила глаза: — Да-а, а они, сукины дети, образованные, и про неё пакостные стихи составляют! Ух, свиньи!
Сима искоса посмотрел на её обнажённую грудь и беспомощно задвигал руками, словно они вдруг помешали ему.
— Ты бы послушал, какие про неё стишки знает доктор, дрянь рвотная!
Она вытянула ноги, легко опрокинула Симу на колени себе и наклонилась над ним, почти касаясь грудью его лица. Юноше было сладостно и неудобно — больно спину: длинное тело его сползало на пол, он шаркал ногами по половицам, пытаясь удержаться на кровати, и — не мог.
— Упаду сейчас, — смущённо сказал он.
— Ой, неуклюжий! Ну?
Помогла ему сесть, обняла и, ласково заглядывая в глаза, попросила:
— Сочини, а?
— Чего?
— Смешное.
— Да что же смешное есть? — тихо спросил юноша.
— Про меня что-нибудь. А то…
Замолчала и долго испытующе смотрела в светло-бездонные глаза, а потом, закрыв их мягкою ладонью, сказала, вздыхая:
— Нет, ты не можешь! Ты у меня — робкий. А они — они про всё могут смешно говорить!
— Про бога — нельзя! — напомнил тихонько Сима. Снова помолчав, Лодка грубо толкнула его в бок и сказала капризным голосом:
— Не щекотай! Руки холодные, — не тронь!
Юноша приподнял голову — её рука соскользнула со лба его. Он посмотрел глазами нищего в лицо ей и, печально улыбаясь, проговорил:
— Не любишь ты меня. Не нравлюсь я тебе.
Закинув руки за голову и глядя в потолок, женщина рассуждала:
— Если б я умела, так я бы уж сочиняла всегда одно смешное, одно весёлое! Чтобы всем стыдно было. Обо всём бы — ух!
Сима повторил, касаясь рукою её груди:
— Не любишь ты меня.
— Ну, вот ещё что выдумал! — спокойно сказала она. — Как же не люблю? Ведь я денег не беру с тебя.
И, подумав, прибавила, играя глазами.
— Я всех мужчин люблю — такая должность моя!
Юноша вздохнул, спустил ноги на пол и сел, жалобно говоря:
— Кабы ты хоть немножко любила меня — об этом надо бы сказать Вавиле-то! А то — стыдно мне перед ним…
Она обеспокоилась, гибко вскочила, обняла Симу и внушительно стала убеждать его:
— Ты этого и не думай, ни-ни! Слышишь? Я — только тебя люблю! А Вавила… он, видишь, такой, — он человек единственный…
Она закрыла глаза и вся потянулась куда-то.
— Я с ним — отчего? — спокойнее и увереннее продолжала она. — От страха! Не уступи-ка ему — убьёт! Да! О, это он может! А тебя я люблю хорошо, для души — понял?
Всё крепче обнимая худое, нескладное тело, она заглядывала в глаза юноши темнеющим взглядом, а между поцелуями рассудительно доказывала:
— Мне за любовь эту чистую много греха простится — я знаю! Как же бы я не любила тебя?
Сима трепетал под её поцелуями, точно раненый журавль, горел жарким огнём и, закрыв глаза, искал губами её губ.
Женщина ещё более торопливо, чем всегда, отдавалась ему, без радости и желания, деловито говоря:
— Ты — не беспокойся!
И после ласково, вкрадчиво шептала:
— Попробуй, Симушка, сочини что-нибудь такое, чтобы люди забоялись тебя! Ты будь смелее! Ведь обо всём можно сказать, что хочешь, — вон, смотри-ка, образованные-то как говорят! И все уважают их. А они и архангелов даже осмеяли, ей-богу!
Глаза её были широко открыты, в них сверкали зеленоватые искры, лицо горело румянцем, дышала она часто, и груди её трепетали, как два белые голубя.
Юноша гладил дрожащей рукой щёку её, смотрел в наивные глаза и, снова разгораясь, слушал ласковый шёпот:
— Мне тебя любить — одна моя заслуга… Ведь я же знаю, что великая грешница я, всей жизнью моей…
Город был весь наполнен осторожным шёпотом — шептались и обыватели, и начальство, только один Коля-телеграфист говорил громко и день ото дня становился всё более дерзким в речах.
Франтоватый, юркий, худенький, он, храбро вздёрнув острый нос в пенснэ кверху, метался по городу и всюду сеял тревожные слухи, а когда его спрашивали: «Да почему ты знаешь?», многозначительно отвечал: «Уж это верно-с!» И молодцевато одёргивал свою щегольскую тужурку.
Доктор Ряхин, покашливая, убеждал его:
— А вы, батя, не волновались бы. Вы рассуждайте философски: человек не может ни ускорять событий, ни задерживать их, как не может он остановить вращение земли, развитие прогрессивного паралича или, например, этот идиотский дождь. Всё, что должно быть, — будет, чего не может быть — не будет, как вы ни прыгайте! Это, батя, доказано Марксом, и — значит — шабаш!
— Но, Алексей же Степанович! — восклицал Коля, вытягиваясь куда-то к потолку. — Должны же люди что-нибудь делать?
— Указано им — плодитесь, множьтесь и населяйте землю, всё остальное приложится вам! И, ей-богу, миленький, ни на что более сложное, чем это простое и приятное занятие, не способны люди, и вы, дорогой, в их числе!
— Господи! Какой же вы мрачный человек в речах ваших!
— Такова позиция человека уездного, ибо — как сказано во всех географиях — население русских уездных городов сплошь состоит из людей, занимающихся пьянством, карточной игрой и мизантропией. А вы — дрыгаете ножкой, — к чему? Вам конституции хочется? Подождите, миленький, придёт и конституция и всякое другое благополучие. Сидите смирно, читайте Льва Толстого, и — больше ничего не нужно! Главное — Толстой: он знает, в чём смысл жизни, — ничего не делай, всё сделается само собой, к счастью твоему и радости твоей. Это, батя, замечательнейший и необходимейший философ для уездных жителей.
— Вы говорите совсем как Тиунов! — уныло воскликнул Коля.
— Тиунов? Ага, переплётчик!
— Он, собственно, часовщик.
— Весьма вероятно, и часовщик. Уездный житель всё делает, но ничего не умеет.
— Фу, боже мой! — вздыхал огорчённый юноша и уходил, чувствуя себя ощипанным.
Доктор, снедаемый каким-то тайным недугом, был мало понятен Коле, но привлекал его шутовской иронией речи, возбуждавшей в голове юноши острые, дерзкие мысли. Ему нравилась и внешность доктора, напоминавшая тонкий хирургический инструмент в красивом футляре, нравилось уменье Ряхина завязывать галстук пышным бантом, его мягкие рубашки, ловко сшитые сюртуки, остроносые ботинки и округлые движения белых ловких рук. Он любил видеть, как на бледном лице вздрагивают тонкие губы жадного рта, играют насмешливо прищуренные глаза. Иногда доктор возбуждал в Коле тоску своими насмешками, но чаще эти речи наполняли юношу некоторой гордостью: повторяя их знакомым, он вызывал общее удивление, а это позволяло ему чувствовать себя особенным человеком — очень интеллигентным и весьма острого ума.