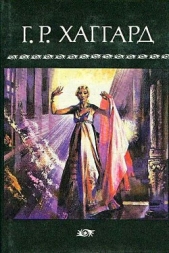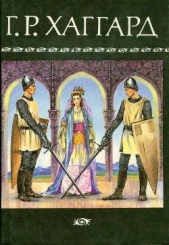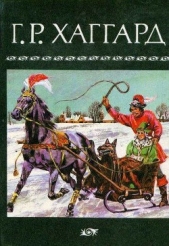Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856
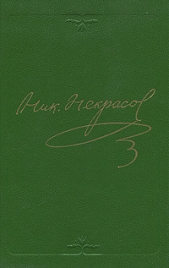
Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856 читать книгу онлайн
В состав восьмого тома входят прозаические произведения 1841–1856 гг., в большинстве своем незавершенные и не опубликованные целиком при жизни Некрасова. К ним относятся «Жизнь и похождения Тихона Тростникова», «Сургучов», «Тонкий человек, его приключения и наблюдения», «В тот же день часов в одиннадцать утра…» — повесть, известная в литературе под условным названием «Каменное сердце» или «Как я велик!». Законченной является лишь «Повесть о бедном Климе», но и над ней, судя по рукописи и по тому, что некоторые ее главы использованы в романе о Тростникове, Некрасов продолжал работать.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— И я.
— И я.
— И потому я отказал ему наотрез.
— И я отказал…
Все повторили: «И я».
— И хорошо мы сделали, что все отказали ему… Что бы мы стали делать с сумасшедшим… Он бы только портил всё… и никакого толку от него не было бы… Служба бы от него ничего не выиграла, да и он от службы тоже…
— Справедливо, справедливо! — подхватили все…
Был тут человек, который думал иначе…
Клим прибежал домой…
Толпа нищих наполняла его комнату…
— Зачем вы здесь? — закричал он…
— А вот она тут — всё стонала, так мы и пришли к ней… а теперь она умерла.
— Умерла!
Клим бросился к постеле; старуха была мертва…
Невозможно вообразить вопля, который вылетел из груди несчастного сына; то был вопль, вместе с которым разум навсегда вылетел из головы его!
— Я убил мою мать! Да, я убил ее! Бегите отсюда, а то… я злодей… Я могу убить вас…
Он захохотал…
— Или нет, поспокойнее… Давайте играть в карты… Нищие смотрели на него с изумлением…
— Что же вы молчите? Чего разинули рты… Думаете, что у меня денег нет… А вот… хоть на платье покойницы… она моя мать… я докажу… я ее наследник…
— А что ж, пожалуй, — сказали некоторые.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Клим в сумасшедшем доме, вы можете его видеть там ежедневно в положенные часы без всякого опасения: он не бранится и не кусается…
Когда его вели туда, он неистово рвался из рук проводников и дико кричал:
— Зачем я не украл шестидесяти тысяч у моего благодетеля, зачем не отбил любовницы у одного важного человека, зачем не женился на побочной дочери другого… зачем, зачем?
И эхо вторило: зачем, зачем?
— Может быть, я тогда был бы счастлив, не голодал бы по суткам, не шатался без дела и без имени, не довел бы до нищеты мою мать, не убил бы ее… Так?.. а?
И он с силой схватывал за плечо одного из своих проводников.
— Только иди смирней, — отвечал проводник, удерживая его, — а то всё правда, всё правда.
И эхо вторило: правда!
1843–1848
Жизнь и похождения Тихона Тростникова *
<Часть I>
Итак, после долгих размышлений отец мой решился отправить меня в Петербург. Я был чрезвычайно рад такому намерению, но сколько можно умерял свою радость, чтобы не пробудить в Душе отца каких-либо невыгодных для меня подозрений, к которым он в последнее время сделался очень склонен. Прикидываясь равнодушным при посторонних и в особенности при отце, я наедине сам с собою смеялся и прыгал, как человек, получивший неожиданно огромное наследство. Тысячи предположений, которые были одно другого несбыточнее или, просто сказать, глупее, но в то время казались мне очень возможными и разумными, не давали мне ни днем, ни ночью покоя: поминутно я был в каком-то напряженном состоянии, в жару. В то время как отец мой, приготовлявший меня к скромной доле чиновника, рассуждал со мною о средствах попасть в какое-либо учебное заведение, которое дало бы мне права на занятие порядочного места, я, наружно соглашаясь с ним, смеялся внутренно, думая о той высокой и завидной доле, которую назначал себе. По приезде в Петербург, не более как через десять дней, я надеялся иметь кучи золота и громкое имя. Здесь время сказать, что ко всем дурным наклонностям, которые волновали мою бурную, необузданную юность, с некоторых пор присоединилась еще одна — именно страсть сочинять стихи. Чтение романов не имело на меня такого влияния, какое имеет оно над большею частию молодых, неопытных голов: я не сделался ни безотчетным мечтателем, который живет на земле только для того, что бренное тело его приковано к этой «юдоли плача». Я не сделался пламенным идеалистом, которые за множеством выспренних идей и высших взглядов забывают даже обедать; нет, романтическое настроение, к которому несколько настроило меня чтение романов, не заглушало во мне голоса жизни положительной; я всегда был более человек положительный, нежели мечтатель; фантазия моя, как бы широко и свободно ни разгулялась она, никогда не загащивалась в «туманной дали» долее того срока, который нужен человеку для сварения пищи: желудок напоминал ей очень исправно свои потребности, — и фантазировать натощак мне казалось делом до крайности неблагоразумным. Однако ж чтение романов развило во мне идеализм настолько, что одних ежедневных житейских мелочей мне казалось недостаточно для наполнения пустоты жизни, и я скоро почувствовал стремление к невещественным интересам: с детской доверчивостью к собственным силам принялся я писать стихи… и, боже мой!.. чего не писал я… и сатиры, и элегии, и поэмы… и драмы… и повести… и… и всё это, не имея понятия ни о сатире, ни об элегии, ни о повести, ни о драме. На что я ни жаловался в своих стихах: и на любовь, которой я не чувствовал и не мог по молодости лет чувствовать; и на измену друзей, которых не имел и настоящего значения их не понимал; и на холодность и жестокость «братии», которые обращали внимания на меня столько же, сколько на собаку, бессознательно лающую; и на «милую», которую подвергал проклятиям; мало того: я пел даже «деву неги», «восторги сладострастья», которых не чувствовал; я приглашал ее (милую, которой у меня сроду еще не бывало):
(NB: дубов в окрестности нашей усадьбы но крайней мере на тысячу верст не было),
и пр.
Я пел «утраты», когда важнейшею из них во всей моей детской жизни была потеря мячика; я пел «страдания», когда самое высочайшее из них было — розги. И… увы! всё это было, как ниже увидит читатель, напечатано! Широко зеваю я и судорожно краснею, перечитывая стихотворные грехи моей юности. Я не понимал, да и не мог тогда понимать высокого и святого значения поэзии, но смело и громко говорил себе и близким приятелям: я поэт! Мячик, кубарь, поэзия — имели для меня совершенно одинаковое значение, и я играл ими совершенно с одинаковым чувством. И не было человека, который бы остановил меня от моих святотатственных порываний (учитель словесности хвалил меня), не было руки, которая бы удержала меня.
О юноши! О вы, недавние гости мира, принимающие необузданное кипение крови в молодых жилах ваших за вдохновение; сильную жажду деятельности высшей и обольстительно-увлекающей — за талант; голос слепого и еще бессознательного самолюбия, влекущий вас к избранию блестящих поприщ, — за призвание неба, за голос свыше, — упражняйте в чем вам угодно ваши молодые силы, но, ради неба, ради искусства вечного и святого, — оставьте поэзию, оставьте и не касайтесь ее до той поры, пока сознаете в себе силу понимать ее высокое и святое значение! Умоляю вас счастием и спокойствием вашей будущности, потому что я не знаю на моей совести преступления, которое казалось мне более сильным, которое сильнее бы меня мучило и чаще возмущало мои сновидения, как преступление против искусства, против поэзии! Но ничем не искупаются грехи против искусства. Человек, однажды осквернивши искусство, или навсегда лишается способности понимать его, или боится к нему приблизиться, чувствуя себя недостойным его. Раз попранное ногами, оно навсегда отвращает чело от своего осквернителя, и нет ему святых даров его, нет ему капли из вечно живого источника утешений, которые почерпают в искусстве люди, подходящие к нему с трепетом и благоговением!
Собираясь в Петербург, где должны были осуществиться мои надежды, я тщательно переписал все мои стихи в особую тетрадку, приписав к каждому из них замысловатое и самое модное заглавие. Тут было всё, что воспевали наши поэты. И «Тройка» и «Колокольчик», и «Она», и «Водопад», и «Пляска», и «Луна», и «Мечты», и «Горе». На заглавном листке надписал я крупными литерами: «Стихотворения Т. С. 18**…» Я крепко задумался, мечтая о том вожделенном дне, когда увижу имя свое крупно напечатанным. Это казалось мне высочайшим благом, какое только могло встретиться в моей жизни. Отец мой, ничего не читавший и вовсе не занимавшийся литературой, однажды застал меня за переписыванием стихов. Прочитав несколько строк: «Вздор какой-то — стихи, — заметил он. — Охота тебе заниматься такими пустяками; я думал, что ты теперь по крайней мере выкинешь эту дурь из головы, — лучше бы я советовал тебе взять печатный высочайший титул да переписывать для навыку — будешь служить, понадобится; ошибешься в титуле — как раз и вон из кармана рубль или полтина: прошения с ошибкою в высочайшем титуле возвращаются с надписью!» Переписывать, мне переписывать!.. Я чуть не захохотал невежеству моего отца; но, чтобы не рассердить его, обещал заняться после обеда титулами.