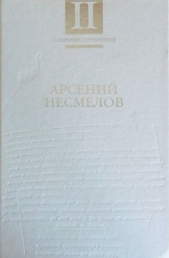Том 15. Рассказы, очерки, заметки 1921-1924

Том 15. Рассказы, очерки, заметки 1921-1924 читать книгу онлайн
В пятнадцатый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1921–1924 годах. Все они, за исключением очерка «О Михайловском», входили в предыдущие собрания сочинений.
Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким. В последний раз большинство из них редактировалось писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Надо полечиться.
Да, надо было что-то делать. От этих видений и ночных бесед с разными лицами, которые, неизвестно как, появлялись предо мною и неуловимо исчезали, едва только сознание действительности возвращалось ко мне, от этой слишком интересной жизни на границе безумия необходимо было избавиться. Я достиг уже такого состояния, что даже и днем, при свете солнца напряженно ожидал чудесных событий.
Наверное я не очень удивился бы, если б любой дом города вдруг перепрыгнул через меня. Ничто, на мой взгляд, не мешало лошади ломового извозчика, встав на задние ноги, провозгласить глубоким басом:
— Анафема!
Или вот на скамье у бульвара, у стены Кремля, сидит женщина в соломенной шляпе и желтых перчатках. Если я подойду к ней и скажу:
— Бога нет!
Она удивленно, обиженно воскликнет:
— Как? А — я?
Тотчас превратится в крылатое существо и улетит, — вслед за тем вся земля немедленно порастет толстыми деревьями без листьев, с их ветвей и стволов будет капать жирная, синяя слизь, а меня, как уголовного преступника, приговорят быть двадцать три года жабой и чтоб я, все время, день и ночь, звонил в большой, гулкий колокол Вознесенской церкви.
Так как мне очень, нестерпимо хочется сказать даме, что Бога нет, но я хорошо вижу, каковы будут последствия моей искренности, — я, как можно скорее, стороной, почти бегом — ухожу.
Все — возможно. И возможно, что ничего нет, поэтому мне нужно дотрагиваться рукой до заборов, стен, деревьев. Это несколько успокаивает. Особенно — если долго бить кулаком по твердому, — убеждаешься, что оно существует.
Земля — очень коварна: идешь по ней так же уверенно, как все люди, но вдруг ее плотность исчезает под ногами, земля становится такой же проницаемой как воздух, — оставаясь темной, — и душа стремглав падает в эту тьму бесконечно долгое время, — оно длится секунды.
Небо — тоже ненадежно; оно может в любой момент изменить форму купола на форму пирамиды вершиной вниз, острие вершины упрется в череп мой, и я должен буду неподвижно стоять на одной точке, до той поры, пока железные звезды, которыми скреплено небо, не перержавеют; тогда оно рассыплется рыжей пылью и похоронит меня.
Все возможно. Только жить невозможно в мире таких возможностей.
Душа моя сильно болела. И если б, два года тому назад, я не убедился личным опытом, как унизительна глупость самоубийства, — наверное, применил бы этот способ лечения больной души.
…Маленький, черный, горбатый психиатр, человек одинокий, умница и скептик, часа два расспрашивал, как я живу, потом, хлопнув меня по колену, странно белой рукой, сказал:
— Вам, дружище, прежде всего надо забросить ко всем чертям книжки и вообще всю дребедень, которой вы живете. По комплекции вашей, вы человек здоровый, и — стыдно вам так распускать себя. Вам необходим физический труд. Насчет женщин — как? Ну, это тоже не годится. Предоставьте воздержание другим, а себе заведите бабенку, которая пожаднее к любовной игре, — это будет полезно.
Он дал мне еще несколько советов, одинаково неприятных и неприемлемых для меня, написал два рецепта, затем сказал несколько фраз, очень памятных мне.
— Я кое-что слышал о вас, и — прошу извинить, если это не понравится вам — вы кажетесь мне человеком, так сказать, первобытным. А у первобытных людей фантазия всегда преобладает над логическим мышлением. Все, что вы читали, видели, — возбуждало у вас фантазию, а она — совершенно непримирима с действительностью, которая хотя тоже фантастична, но — на свой лад. Затем: один древний умник сказал: «Кто охотно противоречит, тот не способен научиться ничему дельному». Сказано — хорошо. Сначала — изучить, потом — противоречить, — так и надо.
Провожая меня, он повторил с улыбкой веселого чорта:
— А — бабеночка очень полезна для вас.
Через несколько дней я ушел из Нижнего в Симбирскую колонию толстовцев и, придя туда, узнал — от крестьян — трагикомическую историю ее разрушения.
Сторож
Я — ночной сторож станции Добринка; от шести часов вечера до шести утра хожу с палкой в руке вокруг пакгаузов; со степи тысячью пастей дует ветер, несутся тучи снега, в его серой массе медленно плывут туда и сюда локомотивы, тяжко вздыхая, влача за собою черные звенья вагонов, как будто кто-то, не спеша, опутывает землю бесконечной цепью и тащит ее сквозь небо раздробленною в холодную белую пыль. Визг железа, лязг сцеплений, странный скрип, тихий вой носятся вместе со снегом.
У крайнего пакгауза, в мутных вихрях снега возятся две черные фигуры, — это пришли казаки воровать муку. Видя меня, они, отскочив в сторону, прячутся в сугроб, и потом, сквозь вой и шорох вьюги, я слышу нищенски жалобные слова просьбы, обещания дать полтинник, ругань.
— Бросьте это, ребята, — говорю я.
Мне лень слушать их, не хочется говорить с ними, я знаю, что они — не бедняки, воруют не по нужде, а на продажу, для пьянства, для женщин.
Иногда они подсылают красивую жолнерку Леску Графову; расстегнув тулупчик и кофту, она показывает сторожам груди; упругие, точно хрящ, они стоят у нее горизонтально.
— Глядите-тко, — как пушки! — задорит и хвастается она. — Ну, хотите за мешок пшеничной второго сорта? Ну, — третьего?
С нею деловито торгуются молодой религиозный тамбовский парень Байков и усманский татарин, хромой Ибрагим.
Она стоит перед ними, открыв грудь, снег тает на коже у нее, встряхнув плечами, как цыганка, она ругается:
— Кацапы, ну, скорее! Болотное племя, али вы найдете где эдакую сладость, как у меня, падаль песья!
Она презирает русских мужиков. Голос у нее грудной, сильное красивое лицо освещено дерзкими глазами кошки. Ибрагим ведет ее под крышу пакгауза, а ее товарищи, бросив на салазки мешок или куль, — уезжают.
Мне противно бесстыдство этой женщины и до тоски жалко ее прекрасное, сильное тело. Ибрагим называл Леску собакой и плевался, вспоминая ее ласки, а Байков тихо и задумчиво говорил:
— Таких убивать надо бы…
По праздникам, нарядно одетая, в скрипучих козловых башмаках, в алом платочке на густых каштанового цвета волосах, она, приходя в город, обслуживает телом своим «интеллигенцию», относясь ко всем покупателям одинаково дерзко и презрительно.
Когда она привязывалась ко мне, я ее прогонял с моего участка, но как-то, теплой светлой ночью, сидя на лесенке пакгауза, я задремал, и, открыв глаза, — увидел перед собой Леску; она стояла, сунув руки в карман тулупчика, нахмуря брови, статную фигуру ее внимательно освещала луна.
— Не бойсь, — не воровать пришла — гуляю!
По звездам — было уже далеко за полночь.
— Поздновато гуляешь.
— Баба — ночью живет, — ответила Леска, садясь рядом со мной. — Ты чего же спишь? Али за сон деньги платят?
Достала из кармана горсть семян подсолнуха и, грызя их, спросила:
— Ты, будто, грамотей? Скажи-ка, где Оболак-город?
— Не знаю.
— Матерь Божия появилась там, кверху ручки, пишется, а младенец Христос — в подоле у ней…
— Абалацк…
— Где он?
— На Урале где-то, или в Сибири.
Облизав губы, она сказала:
— Пойти, что ли, туда? Далеко оно. А, пожалуй, надо итти.
— Зачем?
— Молиться, грешна больно. Все через вас, кобелей… Покурить есть?
Закурив — предупредила:
— Казакам — не говори, гляди, что курю, — у нас не любят, когда баба дымит.
Очень красиво было ее строгое лицо, нарумяненное зимним воздухом, ярко блестели темные зрачки в опаловых овалах белков.
Золотая полоска сверкнула в небе — женщина перекрестилась, говоря:
— Упокой Господь душу! Вот и моя душа так же падет. Тебе когда скушнее, — в светлые ночи, али в темные? Мне — в светлые.
Заплевала огонек окурка папиросы, бросила его и, зевнув, предложила:
— Давай — побалуемся?
А когда я отказался — добавила равнодушно:
— Со мной хорошо, все хвалят…
Я сказал несколько слов о ее отталкивающем бесстыдстве — ласково и мягко сказал. Не глядя на меня, она ответила спокойным, ровным голосом.