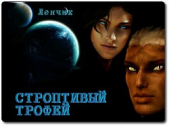Четвёртая осень

Четвёртая осень читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Карманов стянул очки. Маленькие глазки моргали. "Ты ужасные вещи говоришь, Упанишад,- произнес он тихо,- Ужасные... Ты хочешь законсервировать человечество, не понимая, что это для него - гибель". Вальда закивал, заулыбался, ко мне повернул круглое лицо. "Наоборот. Вот Алексей Дмитриевич подтвердит, что законсервированный продукт хранится вечно". Вежливый хозяин, он вообще частенько апеллировал ко мне.
Карманов, зажмурившись, медленно покачал головой. "Ты ужасные вещи говоришь, Упанишад... У человечества всегда был идеал. И оно стремилось к нему".- "К сожалению,- согласился Вальда. (Ах, как я слушал их! Как ловил каждое слово!) - Это-то и уничтожит его..." Карманов посмотрел на него беспомощно моргающими без очков глазками: "То есть?" Философ засмеялся. Не понравился мне, дочка, его смех. "Сам ведь говоришь: царство божье на земле - выдумка дьявола. Или все, или ничего... Это равносильно..."
Он не договорил, равносильно чему, но я понял. Мне кажется, Катя, я понял - по замешательству его, по конфузливой улыбке на крупном лице, по украдкой брошенному на меня взгляду. По тому, что через три недели он вдруг пожаловал ко мне собственной персоной.
Было шесть вечера. Жара спала, но духота стояла ужасная. Риглас почти пересох, пахло раскаленным камнем. Вальда расстегнул рубашку, а голову прикрыл носовым платком.
Завидев меня, торопливо поднялся. "А я вас жду..." - "Меня?" Вот уж не думал, что у него может быть дело ко мне!
Дела и не было. Просто решил, дескать, узнать, не случилось ли что. (Видишь? Что-то, оказывается, может еще случиться у меня!) А сейчас ему пора на дежурство, поэтому... "Я подвезу вас",- и кивнул на машину. "Нет-нет,- испугался он.- Я сам. Мне надо еще домой заскочить"."Заскочим,- сказал я.- У меня есть время".
Он нехотя подчинился. Я ни о чем не спрашивал, но про себя недоумевал, что все же привело его? Он видел это. До отказа опустив стекло, сбивчиво заговорил о нашей последней встрече. "Карманов напрасно затеял этот нелепый спор..." Я насторожился. "Почему же нелепый?" Вальда отер платком лоб. "Вы... Все так сумбурно вышло... Вы могли неправильно понять..."
Что имел в виду? Ту оборванную на полуслове фразу, что стремление к идеалу равносильно... Язык не повернулся выговорить при мне это слово, но я понял - я тогда еще понял! - равносильно чему.
Не тебя подразумевал он. Вообще рассуждал, а уж это я все, что ни происходит вокруг, все, что ни говорят, и все, что ни делают, примериваю к тебе.
Наверное, так будет всегда. Никогда не закончится наш с тобой разговор, где я спрашиваю, где я только спрашиваю, да объясняю, да оправдываюсь, а ты молча смотришь на меня. Зачем-то суечусь, махаю руками... Ты не в состоянии мне помочь. Так же, как в свое время - я тебе.
Нет, Катя, я никого не обвиняю в твоей смерти. Вальда причастен к ней, для меня это несомненно, но не он один. Не он один... Я так и сказал ему сегодня во время нашего последнего с ним разговора. А что он последний, я понял, едва вышел на улицу из тесной и душной бойлерной. Пахло астрами они еще цветут на балконах и лоджиях. Такие же, как при тебе... Сейчас не видно, а днем в поредевшей листве еще желтеют неубранные яблоки. Такие же, как при тебе... Ты умерла, но что-нибудь... хоть что-нибудь изменилось бы вокруг!
Начала не расслышал - так стучали в темноте колеса. К Светополю из снежной Москвы мчал поезд. Ты говорила: "Вроде мы идем с тобой вдоль моря, но не по песку, как в Витте, а по гальке. Камушки собираем... Мокрые, они все красивые, и я все бы взяла, куда только? Ведерко ведь крошечное совсем. Вот и стараюсь угадать по твоему лицу, хороший это камушек или плохой. Лишь бы не спрашивать! Я ведь ужасно упрямой была, даже во сне. Или это не сон был? Но если не сон, то почему такой пустой пляж? Ни одного человека, и сарафан на мне, которого я больше не помню. С синими кружевами. Разве бывают такие?"
Это у меня ты спрашивала. Не у матери - у меня, который и свои-то рубашки толком не знает. Прежде, помнишь, советовался, какую надеть, сейчас же открываю шкаф, правое отделение, где висит все мое, и беру первую попавшуюся.
Так мне кажется, что первую попавшуюся, на самом же деле с краю висит то одна, то другая. Я обнаружил это случайно. Накануне оторвалась пуговица, я вспомнил об этом, одеваясь, и уже хотел было взять другую рубашку, а вечером пришить, но пуговица, к моему удивлению, оказалась на месте. И рубашка была безукоризненно свежей. И, кажется, вовсе не та, что надевал вчера.
Я преклоняюсь перед твоей матерью, Катя. Я преклоняюсь перед ней, но лишь когда ее нет рядом. Когда она не сидит со мной за одним столом в белоснежной кофточке (хоть бы капнула, думаю я), когда не произносит будничным тоном: "С каким маслом будешь картошку?" - а во мне клокочет все. Подымаюсь, молча достаю бутылку. Надо ли удивляться, что я не могу заставить себя спросить, был ли когда-нибудь у тебя сарафан с синими кружевами! Она должна помнить это, а уж если мне так трудно назвать при ней твое имя (никакой логики нет здесь, но это так), то можно ведь и видоизменить вопрос. "А бывают ли,- осведомиться,- сарафаны с синими кружевами?"
Все-таки я задал этот вопрос. Правда, не ей, не твоей матери, единственному на свете человеку, который знает о тебе больше, чем знаю я. Соне... Я задал его Соне. Она как раз шила что-то. Большое, для себя...
Жду, когда откроет, не спросив, по своему обыкновению, кто это, а внутри быстро-быстро пробегает холодок. По звукам за дверью, по тому, как поворачивается ключ в замке, стараюсь угадать, не произошло ли за время, пока мы не виделись, каких-нибудь изменений.
"Чем занимаешься?" - спрашиваю. "Так,- отвечает она с заминкой.- Шью кое-что". С заминкой!
Скрывая волнение, прохожу в комнату. Горит верхний свет, стол пуст, а на тахте лежит темный лоскут, достаточно большой, чтобы развеялись все мои иллюзии.
"Что происходит, Алеша? С тех пор, как умерла Катя..." Я не слушаю дальше. "Сыграй Шопена, мама",- прошу - почти как ты, но только у тебя деликатней выходило.
Не замечая подвоха, моя бедная мама брала ноты, садилась, сухонькая и пряменькая, к пианино, и играла, играла... После тебе доставалось от меня. "Ты пуста. Ты хоть понимаешь, как ты пуста?" - "Понимаю..." Четырнадцать было тебе, четырнадцать или пятнадцать - во всяком случае, еще не бросила рисовать, потому что однажды я прибавил беспощадно: "Воображаешь художницу из себя? Репина, Айвазовского... Но ведь ты еще ни черта не умеешь. Какие-то вазочки малюешь. Груши да вазочки". Ты стояла передо мной с опущенными глазами, а шейка - тоненькая-тоненькая. "Не так, что ли?" "Так",- проговорила тихо, и я смолк, мигом растеряв весь свой разоблачительный пыл. Засопел и закряхтел, носом шмыгнул. Почесался... То есть дал понять, что я уже немолодой человек. Усталый, издерганный, и мало ли, что могу наплести сгоряча! А спустя два года, когда ты спалила у мусорных бачков рисунки, мне вдруг с ужасом пришло в голову, что я тоже повинен в этом. Оправдываться начал: "Я распсиховался тогда... Из-за бабушки. Ну, помнишь?" Ты вскинула на меня благодарные глаза. "Я все поняла,- шепнула.- Еще тогда. Ты так кряхтеть стал... Как хомячок". Я даже заморгал от неожиданности. "Почему хомячок?" Ты засмеялась. "Хомячок,повторила ласково.- Они ужасно забавные у нас".
"Сыграй Шопена, мама",- прошу, стоит заикнуться ей о моем недобром отношении к жене.
Как и тридцать лет назад, она считает твою мать активным человеком. Человеком, до конца преданным духу жизни. (Помнишь это ее выражение?) Потому-то, считает, у нее и достало мужества вынести испытание. "А ты мужчина, Алеша, и не можешь взять себя в руки. Осуждал отца, а сам..." - "Я не осуждал отца",- перебиваю я. "Ну как же... Когда он выпиливал свои фигурки. Мир полыхал, а он..." - "Сыграй Шопена, мама!"
И это - старухе, которой скоро восемьдесят! Которая прожила такую жизнь! И которая конечно же права, потому что я действительно осуждал отца - если не словами, то в сердце своем. Причем не только за театр теней. Не только...