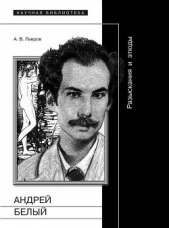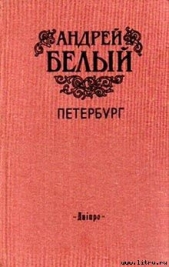Над речкой кентавр полусонный поет.
Мечтательным взором кого-то зовет.
На лире играет. И струны звенят.
В безумных глазах будто искры горят.
В морщинах чела притаилась гроза.
На бледных щеках застывает слеза.
Вдали – точно Вечность. Все то же вдали.
Туманы синеют. Леса залегли.
Уснет и проснется порыв буревой,
и кто-то заблещет, бездонно-немой.
Над речкой кентавр полусонный стоит.
В тревоге главу опустил и молчит.
Мечтатель со дна приподнялся реки,
раздвинув дрожащей рукой тростники.
И шепчет чуть слышно: «Я понял тебя…
Тоскую, как ты, я. Тоскую, любя…
Безумно люблю и зову, но кого?
Не вижу, как ты, пред собой никого.
Учитель, учитель, мы оба в тоске —
бездомные волны на шумной реке…
Как ты, одинок я. Ты робок, как я.
Учитель, учитель! Я понял тебя»…
Уснул и проснулся порыв буревой.
В волнах захлебнулся мечтатель речной.
Кентавр – хоть бы слово: в затишье гроза.
На бледных щеках застывает слеза.
Над речкой кентавр возмущенный зовет.
Уставшую землю копытами бьет.
Он вытянул шею. Он лиру разбил.
Он руки в безумстве своем заломил.
И крик его – дикое ржанье коня.
И взор его – бездна тоски и огня.
В волнах набегающих машет рукой
двойник, опрокинутый вниз головой.
1902
Грядой пурпурной
проходят облачка все той же сменой.
В них дышит пламень.
Отхлынет прочь волна, разбившись бурной
шипучей пеной
о камень.
Из чащи вышедший погреться, фавн лесной,
смешной
и бородатый,
копытом бьет
на валуне.
Поет
в волынку гимн весне,
наморщив лоб рогатый.
У ног его вздохнет
волна и моется.
Он вдаль бросает взгляды.
То плечи, то рука играющей наяды
меж волн блеснет
и скроется…
В небе туча горит янтарем.
Мглой курится.
На туманном утесе забила крылом
белоснежная птица.
Водяная поет.
Волоса распускает.
Скоро солнце взойдет,
и она, будто сказка, растает.
И невольно грустит.
И в алмазах ресницы.
Кто-то, милый, кричит.
Это голос восторженной птицы.
Над морскими сапфирами рыбьим хвостом
старец старый трясет, грозовой и сердитый.
Скоро весь он рассеется призрачным сном,
желто-розовой пеной покрытый.
Солнце тучу перстом
огнезарным пронзило.
И опять серебристым крылом
эта птица забила.
1902
Москва
Поставил вина изумрудного кубки.
Накрыл я приборы. Мой стол разукрашен.
Табачный угар из гигантовой трубки
на небе застыл в виде облачных башен.
Я чую поблизости поступь гиганта.
К себе всех зову я с весельем и злостью.
На пир пригласил горбуна-музыканта.
Он бьет в барабан пожелтевшею костью.
На мшистой лужайке танцуют скелеты
в могильных покровах неистовый танец.
Деревья листвой золотою одеты.
Меж листьев блистает закатный багрянец.
Пахучей гвоздикой мой стол разукрашен.
Закат догорел среди облачных башен.
Сгущается мрак… Не сидеть нам во мгле ведь?
Поставил на стол я светильников девять.
Пришел, нацепив ярко-огненный бант,
мастито присев на какой-то обрубок,
от бремени лет полысевший гигант
и тянет вина изумрудного кубок.
1902
Москва
Старинный друг, к тебе я возвращался,
весь поседев от вековых скитаний.
Ты шел ко мне. В твоей простертой длани
пунцовый свет испуганно качался.
Ты говорил: «А если гном могильный
из мрака лет нас разлучить вернется?»
А я в ответ: «Суровый и бессильный,
уснул на веки. Больше не проснется»…
К тебе я вновь вернулся после битвы.
Ты нежно снял с меня мой шлем двурогий.
Ты пел слова божественной молитвы.
Ты вел меня торжественно в чертоги.
Надев одежды пышно-золотые,
мы, старики, от счастья цепенели.
Вперив друг в друга очи голубые,
у очага за чашами сидели.
Холодный ветер раздувал мятежно
пунцовый жар и шелковое пламя.
Спокойно грелись… Затрепался нежно
одежды край, как золотое знамя.
Вдруг видим – лошади в уборе жалком
к чертогу тащат два железных гроба.
Воскресший гном кричит за катафалком:
«Уйдете вы в свои могилы оба»…
В очах сверкнул огонь смертельной муки.
Коротко было расставанье наше.
Мы осушили праздничные чаши.
Мы побрели в гроба, сложивши руки.