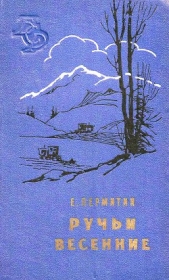Подземные ручьи (сборник)

Подземные ручьи (сборник) читать книгу онлайн
Поэт и прозаик Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) — один из наиболее интересных писателей начала ХХ века. Его изысканная проза, пронизанная тонким психологизмом, постоянно была объектами внимания критики и вызывала жаркие споры современников. Настоящее издание впервые наиболее полно представляет современному читателю Кузмина-прозаика.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Что же, ты передала Эрнесту его слова?
— Милый Тивуртик, ты меня считаешь за дурочку. Они же были меланхолики и чудаки, экстраваганты. Если бы я передала Эрнесту, что брат его скучает, тот застрелился бы.
— Для компании?
— Ну да. Нет, я не зла. Я утаила. Притом меня самое воспоминание об этом как-то расстраивает. Делается не по себе.
— А что же, этот Эрнест счастливо жил после смерти брата? — раздался вдруг совсем близко голос Антонии. Она порозовела и словно слегка задыхалась. Рядом с ней, по другую сторону решетки, подвигался Эспер. Терца подняла голову.
— Эрнест? не знаю… Нет, впрочем, знаю… он скоро умер, но не убил себя. Так, просто умер, от болезни.
Казалось, от жизни и смерти неизвестного ей Эрнеста зависело решение Антонии. Она торопливо как-то выслушала ответ Терцы и вдруг, откинув белые лопасти платья, протянула через решетку обе руки Эсперу, который прижался к ним губами и лбом.
Перед Терциной, отступая задом, семенил господин в темном кафтане, не решаясь задать вопрос. Но она уже забыла, что сердилась на него, и улыбнулась. Тот, обрадовавшись, снял шляпу и, при каждом слове кланяясь и сгибаясь, заегозил.
— Сударыня, простите… не примите… пустое любопытство… О, нет!.. строгая наука… кто осудит? трое детей… ангелочки, если бы вы видели…
— В чем дело? — совсем развеселившись, спросила Терца.
— Простите… нескромность… возраст. — Чей?
— Тех молодых синьоров, несчастных братьев.
— Сколько им было лет?
— Да, если позволите.
— Двадцать.
— А другому?
— Они же были близнецами.
— Верно, верно! Распрекрасно! Дважды двадцать — сорок. И он записал что-то карандашиком на клочке нотной бумаги.
Рассказ Терцы не выходил у меня из головы. Особенно я боялся, чтобы не раздался треск, как от табакерки.
Дома лежало письмо. Оскар фон Риттих застрелился. Никто не знал, что его побудило к этому шагу. Никаких записок он не оставлял. Утром его будили, он не отворял дверей в свою комнату. Часа в три взломали двери. Он лежал с простреленной головою, на столе валялся роман Гете «Страдания юного Вертера».
Гете! виноват ли его роман в этой смерти? и как он сам принял бы подобное обвинение, если бы ему его предъявили?
Я видел его года два тому назад, случайно. Какое прекрасное, какое мужественное лицо! богоподобный вид! Таков истинный гений! Конечно, никакое обвинение близоруких бюргеров не может его коснуться!
Но бедного Оскара жаль. Он принадлежал к породе мечтателей, которых Терца называет меланхоликами и экстравагантами. В Венеции думать — значит быть грустным; задумчивость и печаль — одно и то же. В этом есть доля правды, разумеется.
Опять жирный Амур, теперь уже без парика и без колчана, без маски, подал мне письмо от Эспера. Без маски и в ливрее мальчишка не внушает мне ужаса, хотя при себе я бы не стал его держать. Оказывается, мне противны толстые затылки и пухлые руки, словно перетянутые ниткой.
Эспер ликует. Антония согласилась. Он приписывает эту перемену впечатлению от рассказа Терцины и рассыпается в благодарностях, хотя помощь наша была невольной и бессознательной. Он все-таки, очевидно, не вполне уверен в прочности согласия, потому что поспешил увезти Антонию, теперь его невесту, к себе на родину. Он так торопился, что не успел даже зайти проститься. Терца очень хвалится успешным окончанием этой истории, хотя в глубине, кажется, не понимает и не одобряет ни того, ни другую.
Ветер оборвал прозрачные лепестки букета и несет их по лестнице — тюльпаны, маки, розы и жасмины, сквозящие на косом вечернем солнце. И мой жасмин, Терца, катилась вместе со всеми к зеленоватой воде. Крик гондольера, всплеск, и вся ватага, колыхаясь, как в дормезе, отчаливает. Крики, смех, писк и пенье разносятся по каналу.
Я не могу теперь без трепета видеть вечернюю звезду, — все жду, когда она степенно поползет по серому картону небес, удивляясь, что не слышу высокого пения скрипок.
Я вздрагиваю всякий раз, когда щелкают при мне табакеркой.
Рассказ о близнецах все не дает мне покоя. Очевидно, я — такой же экстравагант.
Не испытывая сильных чувств и страстей, я принужден заменять их количеством впечатлений, кучей пестрых, мелких, острых уколов, смеха и развлечения. Терца в восторге и выдумала еще новое уменьшительное, лаская меня. Наутро мы оба его позабыли. А гондольер поет строфы Торквато Тассо, будто весть из другого мира. Впрочем, рассказы о том, что гондольеры знают и распевают весь «Освобожденный Иерусалим», разумеется, преувеличены. Они помнят строфы три-четыре, всегда одни и те же. Мотив, надо признаться, величествен и патетичен, хотя не без монотонности.
Сегодня почти всю ночь проиграли в карты. Выиграли немного. Терцу радует это, как ребенка. После поехали кататься. Я вдруг вспомнил, словно это именно и мучило меня все время:
— Терца, ангел мой, а помнишь того господина, который справлялся о возрасте немецких близнецов?
— Помню.
— Какая тайна! что его с ними связывало? подумала ли ты об этом?
Терца пожала плечами.
— Что же тут думать! Я и тогда знала. Он — игрок: играет на лотерее и хотел загадать счастливый номер. Вот и все.
Я же остался в меланхоликах и экстравагантах!
Всходило солнце. Оно так красно окрашивало воду, что плавающих апельсинных корок не было видно, нельзя было заметить. Теплый, теплый ветер набегал упруго, будто тыкаешься в женскую грудь.
Двадцать на два — сорок. Для кого-то счастливый номер. Терца спит, свернувшись в клубочек. Она такая коротенькая, вся в ямочках, розовая — где ей нести сильные страсти и прочие немецкие чудачества!
Римские чудеса
Ворота только что заперли. По улицам сновал народ, собаки попадались спросонок под ноги и визжали, когда им давили лапы, фонари зажигались в ларьках и у публичных домов, пахло луком и жареным прованским маслом. Руки, лоб и плечи были покрыты потом. Звезда смотрела на Рим, будто в других местах ее не было. Изредка кричал осел, задрав хвост. Павлины спали. Мальчишки нарочно пылили на оставшиеся непроданными жареные жирные пирожки с рубцами. В открытые двери было видно, как ужинали из одной чашки ремесленники. На горизонте густела туманная туча, обещающая дождь на завтра. Хозяйки переговаривались через улицу, убирали вывешенные тюфяки и подушки, голопузые ребятишки с ревом уводились домой. Прохлада вдруг потянула, будто протек ручей, почти ощутимо: вот тут — пекло, протянул руку — холод, дальше снова тепло. Далеко в казармах играли трубы. С прохладой проник дух мяты, укропа и полыни, почти морской горечи. Мужчина лет сорока шел, опираясь на палку; за ним, будто спя на ходу, подвигалась рыжая женщина. Бледная кожа ее висела мешками у глаз, лиловатых, как фиалки. Рот, беспомощно полуоткрытый, кривился, но странная торжественность, почти божественная, ее лица заставляла прохожих оборачиваться. Некоторым казалось, что от тонких ее волос исходит розоватое сиянье. Одежда их была покрыта белою пылью, но в ушах у рыжей были вдеты длинные серьги с изумрудами.
Заметив внимание толпы, она опустила оранжевое покрывало. Человек шел, не глядя по сторонам, стуча палкой. Остановившись на перекрестке, он, словно что-то вспомнив, взял налево, и женщина снова подняла узел, который опустила было на землю, воспользовавшись минутным отдыхом. В руках ее спутника ничего не было, кроме посоха, только у пояса висело медное зеркальце и связка янтарных бус.
— Смотри, чтобы не задохлась черепаха! — сказал он, не оборачиваясь.
— А я? а я?
Они шли, не останавливаясь. У храма маленькая пыльная роща журчала невидным фонтаном. Рыжая вдруг села на камень, опустив руки между колен, как купальщица. Пройдя шагов пять, мужчина остановился и ждал. Потом подошел.
— Это что? Женщина, не меняя позы, опустила веки, словно заснула окончательно.
— Что это, я спрашиваю. Причуды? Тут два шага дойти. Все это — притворство, больше ничего! Усталости не может быть!