Том 12. В среде умеренности и аккуратности
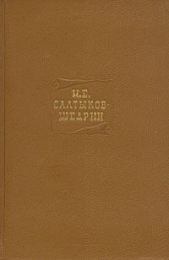
Том 12. В среде умеренности и аккуратности читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника». Именно эти произведения и в такой последовательности Салтыков предполагал объединить в одном томе собрания своих сочинений, готовя в 1887 г. его проспект.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но у меня вертелось в голове еще одно опасение: я полагал, что возвращение в дом предков вызовет лично во мне чувство умиления. Воскреснут в памяти забытые детские игры, встанут перед глазами, как живые, любезные сердцу лица. Очевидно, это должно населить гроб хотя и призраками, но все-таки помешает ему быть настоящим гробом. Однако и тут обошлось благополучно. Чтоб покончить разом с этим опасением, я тотчас же обежал весь дом и останавливался в каждой комнате, стараясь припомнить. Вот маменькина комната и в ней длинный стол, за которым она, обыкновенно, раскладывала из медных тазиков по банкам варенье; этот стол и теперь стоит на старом месте, и на поверхности его еще сохранились кружкѝ, свидетельствующие о пребывавших тут некогда банках с вареньем; и сама маменька, словно живая, сидит вон на том кожаном кресле и держит в руках серебряную ложку… Вот папенькин кабинет (теперь он мой), и в нем небольшой четырехугольный стол с разрисованною на верхней доске шашечницею, перед которым покойный, сидя в обитом кожею вольтеровском кресле, читывал «Московские ведомости»… Вот девичья, в которой летом толпа горничных, облепленных массами мух, с утра до вечера чистила ягоды, горох, грибы и проч., а зимой, тоже с утра до вечера, раздавалось жужжание веретен… Вот детская; в противоположность другим комнатам, узенькая, низенькая, в которой обитало великое множество клопов… Повторяю: я обежал все это и множество других комнат (вот тут была спальня дедушки, когда он приезжал в деревню «в гости»; вот тут рядом — спальня его «сударки», перед которой подличал и ходил на задних лапках весь дом; вот тут жил когда-то дяденька «буян», которого в хорошие комнаты не пускали и который едал из одной чашки с собакой Трезором; вот тут ютились тетеньки-сестрицы, к которым я бегивал тайком за мятными пряниками; вот тут поймали Генриету Карловну с учителем Василием Иванычем и т. д.) — и, о чудо! — никакого умиления не ощутил! Возвратился в зал, посмотрел в окно — оттуда виднеется река, в настоящее время скованная льдом, и опять-таки никакого умиления! Кабинет, детская, река — всё имена нарицательные, которые так и остались нарицательными. Отчего это? Оттого ли, что самые воспоминания, сопряженные с этими нарицательными именами, не заключают в себе ничего умилительного, или оттого, что человек, перешибленный пополам, сам по себе делается недоступным для чувств умиления, так как между его детством и старчеством легла целая пустота, которая поглотила всё без остатка, кроме страстного желания обрести гроб.
Как бы то ни было, но я понял, что гроб найден и что отныне начинается существование, в которое не вторгнутся ни сельскохозяйственные доклады, ни «слияния», ни умиления. Я наскоро пообедал, надел халат и немедленно почувствовал себя спокойно, безмолвно, почти что мертво!..
Впрочем, мне все-таки не удалось лечь в гроб сразу. По обыкновению, сейчас после приезда, пришел отрекомендоваться сельский батюшка. Но и он оказался какой-то сосредоточенный, однословный, угнетенный, угрюмый, точно только затем и пришел, чтоб посмотреть, как я улягусь в гробу, а он меня потом отпевать начнет.
— На жительство… совсем? — начал он словно нехотя.
— Да, совсем.
— Великое это слово… «совсем»!
Я махнул головой в знак согласия.
— Просторно вам здесь одним будет!..
— Да, комнат много.
— Хозяйствовать не станете?
— Нет.
— И не надо!
Разговор на минуту прервался.
— Жизнь здесь… — начал он опять.
— Я не для «жизни».
— А коли не для «жизни», так настоящее место — здесь! Да… именно, именно здесь!
Он как-то тоскливо взглянул на меня, покачал головой, потом посмотрел на буфетный шкап и продолжал:
— Вот ежели в этом разе водка… спаси бог!
— Не потребляю. А вы?
— Спаси бог!
Опять молчание.
— В парках — шум от ветров; опять же вороны гнезда вьют… Ставни по ночам стучать будут! Проржавели, поди, петли-то…
— Не знаю, не спрашивал.
— Оторопь возьмет, оторопь! Главное — ставни на ночь плотнее запирать!
— Прежде запирали; конечно, будут и теперь запирать.
— Ну, с богом!
Он подал мне руку и исчез… «Что ж? оторопь так оторопь — тем лучше», — подумалось мне. Она будет напоминать мне прошлое: ведь я всю жизнь, если сказать по правде, ничего, кроме оторопи, и не испытывал…
Впоследствии я узнал, что здешний батюшка — отличнейший человек. Водки не пьет действительно, устроил в селе школу, в которой безвозмездно учит крестьянских детей; с мужичками живет в ладах, читает им по воскресеньям краткие поучения о том, ка̀ко благоугодити господеви, и за свадьбы берет по-божески, не придираясь. Вообще обстановку имеет скромную, почти бедную. А смотрит он угнетенно, потому что жена у него — франтиха и сластена и ежемгновенно его точит. То упрекнет, что он не по-людски одевается, «ходит, словно мельница крыльями машет, — то ли дело у нас в городу уланы стоят!», то ставит ему в вину, что он кануны соблюдает *: «всё у него либо под преподобного Мартиниана, либо под Тимофея-мученика!» А он ей в ответ: «Ты бы, дура, прежде смотрела!»
Меня на минуту заняла мысль: каково-то ему, человеку скромному и, по-видимому, даже чем-то проникнутому, жить в селе Лисьи Ямы, в норе, на цепи, с глазу на глаз с попадьей, сластеной и франтихой? И он на цепи, и она на цепи… Она скалит зубы и скачет, и он скалит зубы и скачет. И оба благодарят провидение, что у каждого цепь настолько коротка, что не пускает их загрызть друг друга. Этим и процветает семейный союз.
Если кто думает, что вслед за этим вступлением появится на сцену дворовая девица (плод секретной любви покойного папеньки) и затем произойдет интереснейшее кровосмешение, или что из-под куста выпорхнет породистая помещичья дочка и подаст повод к целому ряду приятных сцен, с робкими поцелуями, трепетными пожатиями рук, трелями соловья и проч., — тот пусть не читает дальше этих признаний.
Ничего этого не будет: во-первых, потому, что ничего подобного не было в действительности, а во-вторых, и потому, что я поставил себе задачей писать о гробе, только о гробе.
Мысль об этом приличнейшем, по настоящему времени, убежище давно уже шевелилась во мне и, наконец, вполне созрела по следующему очень характеристичному случаю.
Не очень давно тому назад, умершему прославленному человеку нужно было отыскать приличное «последнее убежище». * Разумеется, пошли переговоры с кладбищенскими властями, и вот, во время этих переговоров, матушка игуменья некоего знаменитого монастыря, на который указал знаменитый покойник еще при жизни, таким образом рекомендовала свой товар:
— У нас на монастырском кладбище — очень хорошо. Тишина, порядок, простор. И зимой-то придешь посмотреть — залюбуешься, а летом, как распустятся деревья, — точно в раю! И не вышел бы! Советую.
И, видя, что слова ее производят благоприятное впечатление, присовокупила:
— И еще тем у нас хорошо, что для всех состояний такса установлена — по-божески! — кому что требуется. И богатые люди, и среднего состояния, и бедные — всех милости просим! И первого класса места̀, и второго, и третьего — все распределено, смотря по тому как. Поближе к благодати — и плата выше, подальше от благодати — и плата понижается. За церемониал плата особенно, и тоже по состоянию. Есть большая служба, есть средняя служба, есть и малая. Большое освещение, среднее и малое. Также и насчет поминовений. Нудить никого не нудим, а кто как любит, так для себя и выбирает. Советую.
Вот тогда-то и блеснула у меня в голове мысль: именно мне это самое и нужно. Но так как все эти удобства я мог получить хозяйственным образом, то есть у себя, в своем собственном кладбище, то ясно, что для меня был прямой расчет воспользоваться этим преимуществом. Там, думалось мне, я все найду: и место первейшего класса (безвозмездно), и свой собственный готовый гроб, а что касается до церемониала, то, наверное, тамошняя самая большая служба будет стоить вдвое дешевле, нежели здешняя самая малая.

























